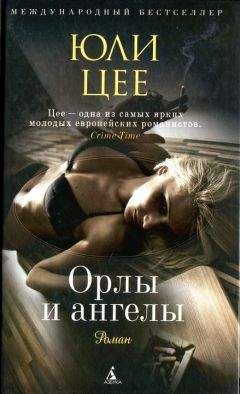До скорого, кричу уже с лестничной площадки, собаку я тебе оставляю.
Пока я жду такси у подъезда, с неба падают первые капли, разбиваясь о мостовую с таким стуком, что я на миг задумываюсь, вода ли это. Больше похоже на фарфоровых зверьков, которых выбрасывают из окна с одного из верхних этажей. Отхожу под «козырек» подъезда, прижимаюсь лбом к чугунным прутьям на оконце входной двери, дотягиваюсь сквозь прутья до прохладного стекла. Начинается гроза. Светло-зеленые листья носятся на ветру, струи дождя прибивают их к тротуару и мостовой, где они и приклеиваются.
Короткая пробежка от такси до подъезда — и я промокаю до нитки. Стоит тьма египетская. Мой почтовый ящик ломится от корреспонденции, я выгребаю ее и, даже не взглянув, выбрасываю в один из баков для мусора под лестницей. Стою на площадке первого этажа, прислушиваюсь, прежде чем подняться к себе в квартиру.
Пока я пытаюсь вставить ключ в замок, дверь сама открывается внутрь. Моя рука судорожно опускается в карман и стискивает какой-то предмет. Это толстая трехцветная авторучка с приветом из Вены. Стискиваю ее, как нож, и готовлюсь нанести удар. А глаза никак не могут привыкнуть к темени, свет с лестничной площадки не проникает вглубь квартиры, и ее нутро остается непроницаемо черным.
И как раз сейчас со мной нет Жака Ширака. Может быть, это именно та ситуация, которой мы с Джесси полубессознательно ждали два года. Единственный раз, еще в самом начале, мы говорили о ней — во взятой напрокат машине, по дороге из Вены в Лейпциг, на перегоне между Пассау и Хофом. Джесси вновь очнулась, и первым же словом, которое мне удалось разобрать, оказалось «собака».
Мне всегда хотелось завести собаку, сказала она. И пони. А теперь придумала, как их скрестить.
Скрестить, переспросил я. Собаку и пони?
Вот именно.
В недоумении я нахмурился, а она прикоснулась рукой к моему плечу. Лицо у нее было бледное, еще разобранное после долгого обморока и предельно серьезное. Выглядела она не девочкой, а как минимум на свой возраст. Такие моменты возникали редко. И приводили меня в смятение. Справа от меня в ветровом стекле отражался ее профиль.
Знаешь, Куупер, сказала она, тебя-то Руфус вызволит, а вот меня нет. Заведя большую собаку, я буду чувствовать себя в большей безопасности.
Я не знал, что ответить, и поэтому просто молчал.
Есть, сказала она, такое правило: никто и ничто не спасет тебя, если за тобой гонится собственный отец. Особенно если он таков, как Герберт.
Кивнула, словно поддакнув сама себе, принялась кивать безостановочно. Я положил ей два пальца на лоб, чтобы унять эти кивки.
Я за тобой пригляжу, сказал я ей, твоя безопасность для меня важнее моей.
ТЫ, переспросила она, не скрывая презрения.
Это меня обидело. Хотя, с другой стороны, она, разумеется, была права. Я был юристом, а вовсе не уголовным преступником чуть ли не с колыбели, в отличие от ее отца. Да и от нее самой. Я заставил себя встряхнуться.
Джесси, сказал я, на самом деле все верно с точностью до наоборот. Так мне объяснили. Это МЕНЯ оставят в покое из-за ТЕБЯ. Это ТЫ гарантируешь безопасность нам обоим.
Это признание мне пришлось из себя буквально выдавить, но она ничего не поняла или не подала виду, что поняла.
Я хочу завести собаку, сказала она.
Мы купили дога, и хотя Жак Ширак оказался не прирожденным убийцей, а ласковым раздолбаем, вид у него весьма внушительный, и будь он сейчас со мной, я спокойно вошел бы в квартиру, положив руку ему на загривок.
Злобно клацнув зубами, гаснет свет на лестничной площадке. Смутно угадываю в прихожей очертания подставки под телефон. Она валяется на полу, свороченная набок. Вижу и щель, половица с нее сорвана, тайник открыт. Следующим, что вырисовывается передо мной во тьме, становится дверь в кабинет. Она нараспашку. Доски, которыми она была заколочена, болтаются по бокам, на одном гвозде каждая.
Шарю рукой по стене в прихожей в поисках выключателя. Внезапно меня перестает волновать, есть тут кто-нибудь или нет. Бросаю толстую авторучку на опрокинутую подставку, набираю полные легкие воздуха и в три прыжка оказываюсь на пороге кабинета.
Зрелище не такое удручающее, как я предполагал. Может быть, я абсурдно опасался того, что на полу здесь по-прежнему лежит тело Джесси. Помещение почему-то запомнилось мне более просторным, чем есть на деле, ощущение чуть ли не такое, будто я вернулся в дом собственного детства. Из письменного стола выдвинуты и вытряхнуты все ящики, сейчас они, пустые, стоят, прислоненные к стене. От моего компьютера остался только монитор. Три половицы вскрыты. Дверь в спальню приотворена.
Строго говоря, мне плевать, что сделали с квартирой, я ее своей все равно больше не считаю. И в спальне пол в нескольких местах вскрыт, платяной шкаф опрокинут, его содержимое разбросано по всей комнате. А вот на что мне невыносимо глядеть, так это на нашу кровать: постельное белье сорвано, двуспальный матрас исколот и располосован ножом, как жертва маньяка, набивка клочьями, как кишки из вспоротого живота. И словно в издевку поверх всего этого непотребства аккуратно разложена солнечно-желтая пижама.
Что-то тикает. Наш будильник на ночном столике, и время он показывает тоже правильное, и по какой-то причине тот факт, что он вопреки всему исправно функционирует, оказывается самым шокирующим открытием.
Разворачиваюсь прямо на пороге на сто восемьдесят градусов и бегу прочь. Из квартиры, вниз по темной лестнице, под проливной дождь.
Жак Ширак ждет у двери. Я кричу. Я кричу еще раз что есть мочи. Клары нет дома. Я долго стою в прихожей.
Окна все еще раскрыты. Дождь кончается, снаружи едва накрапывает. В гостиной предметы одежды, оказавшиеся у окна, превратились в мокрые бесформенные комки, листы бумаги набухли, пошли волнами, шрифт расплылся. На ковре гигантское мокрое пятно в форме Южно-Американского континента.
В ванной я срываю с крючков все полотенца и банные простыни и забрасываю ими кафельный пол на кухне. Брюки ниже колен промокли и отяжелели настолько, что не держатся и на поясе. На столе нет никакой записки. На часах десять, сегодня не воскресенье и не среда. Нахожу записную книжку Клары и прикидываю, не поискать ли ее у друзей. Нет, бессмысленно: в книжке сотни имен.
Сажусь за кухонный стол, прикрываю глаза руками, пытаюсь с полной концентрацией продумать увиденное — вспоротый матрас, пижаму Джесси, будильник. Одно из правил Руфуса гласит: сосредоточься на невыносимом, если не хочешь, чтобы за тобой гнались из вечности в вечность.
Матрас, пижаму и будильник вместе с упаковкой снотворного для нас обоих я купил в торговом центре возле Главного вокзала сразу же после переезда в Лейпциг. Экипировавшись подобным образом, мы въехали в пустую квартиру. Адрес значился на клочке бумаги, который я накануне, перед отбытием, обнаружил на своем письменном столе в венской конторе. К бумажке были прикреплены клейкой лентой два ключа.
Несмотря на будильник, я в первый же день проспал, и виной тому были рабочие, уже в семь утра начавшие сбивать старую штукатурку с фасада. Вся улица стояла в строительных лесах. Новенький будильник с голосовым контролем пропикал дважды, принял очередной удар молотка за мой отклик, умолк, испуганно затих на полу и не издал более ни звука. Окончательно я проснулся лишь от того, что Джесси в солнечно-желтой пижаме затеребила меня за плечо.
Разве тебе не нужно вставать?
Через десять минут я выскочил из дому. Джесси бросилась за мной вдогонку на улицу, пожелала мне удачи и пообещала купить что-нибудь на ужин к моему возвращению. Строго говоря, удача мне была без надобности, а приготовить что-нибудь путное она бы все равно не сумела, но я был тронут. На прощание она втиснула мне что-то в ладонь. Это был маленький желтый флюгер, который я накануне стащил по ее настоянию с цветочной клумбы какого-то ресторана. Джесси объявила, что этот флюгер поразительно похож на нее. А желтый цвет и вообще был ее любимым. Ку-упер, сказала она как-то, желтый цвет на какой-то миг останавливает бег времени. С желтым ты никогда ничего не знаешь. Не знаешь даже, стоять ли на перекрестке или можно ехать. К сожалению, именно из-за этого цвета у меня особенно разыгрывается мигрень.
Желтый цвет она выносила, только когда все остальное оказывалось в полном порядке, и ее вид после пробежки — в желтой пижаме, с желтым флюгером в руке — я воспринял как доброе предзнаменование. Я поцеловал ее, сказал «до вечера» — и сказал так непринужденно, словно такие прощания возле дома были у нас в повседневном обиходе.
Вскоре после этого я, опоздав без малого на час, очутился на пороге здания на площади Моцарта — здания эпохи «грюндерства», — где на кремового цвета фасаде был прикреплен щит, на котором значилась фамилия Руфуса. Одет я был так, что спрятать флюгер мне было просто некуда. Я нес его в руке, как цветок для хозяйки дома на вечеринке с коктейлями.