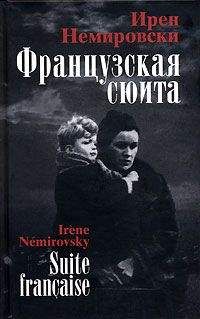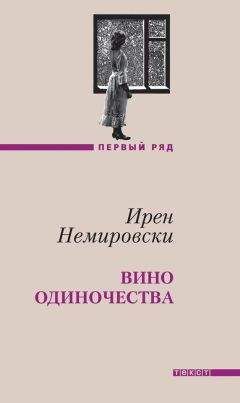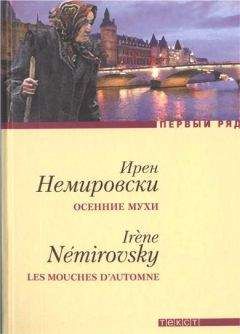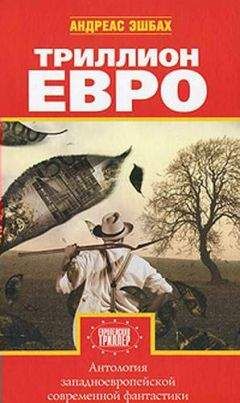Годом раньше несколько американских финансистов объединились, чтобы протянуть линию железной дороги на Запад в забытом Богом краю холмов и болот… Через восемнадцать месяцев деньги закончились, и компаньоны разбежались… Вот тогда-то Гольдер взял дело в свои руки. Привлек капиталы, отправился на место и остался там… Он всегда доводил все до конца…
Гольдер жил вместе с рабочими в бараке, сколоченном из гнилых досок. Начался сезон дождей. Вода сочилась из стен, протекала через дырявую крышу, а когда наступал вечер, с болот прилетали огромные злые комары. Каждый день кто-нибудь умирал от лихорадки. Хоронили по вечерам, чтобы не прерывать работу, и гробы весь день стояли под мокрым, хлопающим на ветру брезентом.
Именно там в один прекрасный день и появилась Глория — в мехах, с накрашенными ногтями, на высоких увязавших в рыхлой земле каблуках.
Он помнил, как она приехала, как вошла к нему, как с трудом открыла грязное оконце, и они услышали кваканье лягушек. В тот осенний вечер темно-красное, почти коричневое небо отражалось в болотной жиже… Тот еще пейзаж… Жалкая деревушка… запах заплесневевшего дерева, грязи, воды… Он все твердил: «Ты сошла с ума… Зачем ты приехала? Подхватишь лихорадку… Мне только женщин тут не хватало…»— «Я скучала, — говорила она, — хотела тебя видеть, мы женаты, а живем как чужие, на разных концах света». — «Где ты ляжешь?» — спросил он, подумав, что его складная кровать слишком узкая и жесткая. Что она ответила? Ах да, конечно: «С тобой, Давид…» Бог свидетель — в ту ночь он ее не хотел, был слишком измучен усталостью, работой, недосыпом и лихорадкой… Он с опаской вдыхал забытый запах ее духов и бормотал: «Ты сошла с ума, сошла с ума…», но она лишь теснее прижималась к нему горячим телом и с ненавистью шипела сквозь зубы: «Ты что, совсем ничего не чувствуешь? Перестал быть мужчиной? Тебе не стыдно?..» Неужели он ни о чем не догадывался?.. Гольдер не помнил… Бывает, мы закрываем глаза, отворачиваемся, не хотим видеть… Зачем? Особенно если обстоятельства сильнее нас… А потом все забывается… Той ночью, когда она оттолкнула его от себя усталым жестом наевшегося до отвала животного и уснула, сложив руки крестом, дыша тяжело, как в кошмарном сне, он сел работать. Керосиновая лампа чадила и трещала, лил дождь, под окнами орали лягушки.
Через несколько дней она уехала. В тот год родилась Джойс… само собой разумеется…
Джойс… Джойс… Гольдер как дурак повторял ее имя с хриплым сухим всхлипом, напоминающим крик раненого зверя… Он любил ее… свою малышку… свою девочку… Он все ей дал. А она ни в грош его не ставила, прижималась к нему, как шлюха, ласкающая и целующая старого любовника… Она прекрасно знала, что он ей не отец… Деньги — вот что ей было нужно, только деньги… Когда он обнимал ее, она отворачивалась… «О, папочка, я уже напудрилась…» Она его стыдилась. Он был неповоротливым, неотесанным мужланом… От жестокого унижения заходилось сердце… По щекам потекли горячие злые слезы, и Гольдер отер их дрожащим кулаком. Он, Давид Гольдер, не станет плакать из-за этой маленькой дурочки! «Она уехала, оставила тебя в одиночестве, больного…» Во всяком случае, денег она из него на сей раз не вытянула. Он с острым, почти животным удовольствием вспомнил, что не дал ей ни су. Ойос… как он тогда сказал: «Нужно было надавать ей пощечин…» Зачем? Он отомстил куда тоньше. Они забыли, кто хозяин денег: стоит ему захотеть, и завтра все подохнут с голоду… Он говорил «все», но думал только о Джойс. Он больше не даст ей ни гроша, даже вот столько не даст! Гольдер звонко щелкнул ногтем по стиснутым зубам… Горе им — они забыли, кто он такой! Несчастный больной, полумертвый, обманутый, выставленный на всеобщее посмешище человек… по имени Давид Гольдер! Когда в Лондоне, Париже и Нью-Йорке кто-то произносил это имя — «Давид Гольдер», — люди представляли себе старого жестокосердного еврея, которого окружающие всю жизнь ненавидели и боялись за то, что он уничтожал любого вставшего у него на пути.
— Мерзавцы, прихлебатели, — пробормотал он. — Я им покажу… проучу перед смертью… раз уж она проговорилась, что я умираю…
Дрожащие пальцы путались в складках мятой простыни. Гольдер с болезненным отчаянием взглянул на свои горящие огнем неподъемные ладони. «Что они со мной сделали?» Он закрыл глаза, проскрипел с ненавистью в голосе:
— Глория…
Глория с ее жемчугом, холодным, как клубок змей… и та, другая… маленькая шлюха…
— Кто они без меня? Просто грязь под ногами… Я работал, — в полный голос произнес Гольдер, помолчал, ломая руки, и продолжил: — Да, я убил Шимона Маркуса, и знаю это… Знаешь, знаешь, чего уж там, — пробормотал он мрачным тоном, обращаясь к себе, — и теперь… Они думают, я так и буду работать, пока не сдохну, как собака, уму непостижимо!.. — Гольдер издал странный сухой смешок, как будто подавился кашлем. — Сумасшедшая старуха… и другая не лучше… — Он выругался на идише, проклиная жену и дочь. — Нет, милая моя, все кончено… кончено… навсегда…
Наступил новый день. Гольдер услышал за дверью какой-то шум и машинально спросил:
— Кто там?
— Телеграмма, мсье.
— Войдите.
Слуга подошел к Гольдеру.
— Мсье плохо себя чувствует?
Он не потрудился ответить и вскрыл телеграмму.
«Нуждаюсь деньгах Джойс».
— Если мсье хочет ответить, телеграфист еще не ушел… — сообщил слуга, с удивлением глядя на Гольдера.
— Что? — рассеянно переспросил тот. — Нет… Ответа не будет…
Он вернулся в кровать, закрыл глаза и замер. Явившийся несколько часов спустя Лёве так и нашел его неподвижно лежащим, с закинутой назад головой. Он дышал с болезненным усилием, приоткрытые дрожащие губы были белыми от жара и обезвоживания.
Гольдер отказался вставать, не отвечал на вопросы, призывы и мольбы, не сделал ни одного распоряжения. Он выглядел полумертвым, оторвавшимся от земли. Лёве вложил ему в руку письма с просьбой предоставить кредиты, дать отсрочку, оказать помощь и содействие, но Гольдер не подписал ни одного. Обезумевший от ужаса Лёве уехал в тот же вечер. Три дня спустя биржа зафиксировала разорение Давида Гольдера. Крах его состояния неумолимой лавиной накрыл с головой очень многих.
Этой ночью Джойс и Алек решили заночевать близ Аскена. Они покинули Мадрид десять дней назад и теперь путешествовали вдоль Пиреней, не в силах насытиться любовью.
Обычно машину вела Джойс, а Алек и Джиль спали, утомленные жарой и солнцем. С наступлением вечера они останавливались в какой-нибудь маленькой гостинице и ужинали в саду, в компании других влюбленных. Играл под сурдинку аккордеонист, в воздухе разливался аромат глициний, развешанные на ветвях бумажные фонарики неожиданно воспламенялись, и веселый золотой огонь, выплеснувшись на листья, осыпался на землю черным пеплом. Алек и Джойс сидели за шатким столиком, пили холодное вино и целовались. Поужинав, они поднимались в пустую прохладную комнату, занимались любовью, засыпали, а на следующий день отправлялись дальше.
В тот вечер они ехали по горной дороге к Аскену. Заходящее солнце окрашивало деревенские домики в конфетный розовый цвет.
— Завтра меня «призовет под знамена» леди Ровенна… — сообщил Алек.
— Мерзкая злобная уродина! — с тихой яростью пробормотала Джойс.
— Нужно же чем-то жить. Когда мы поженимся, я буду спать только с молодыми красавицами. — Алек рассмеялся и нежно прикоснулся к ее изящному затылку. — Я хочу тебя, Джойс… Очень хочу, только тебя… сама знаешь…
— Конечно, знаю, — небрежно бросила девушка, торжествующе надув красивые губки, — еще бы мне не знать…
На землю опускалась темнота. Легкие вечерние облака отправлялись на ночлег в долины. Джойс остановилась у дверей гостиницы. Хозяйка открыла дверцу.
— Спальня с одной кроватью, мсье, мадам? — с улыбкой спросила она, взглянув на молодую пару.
Пол в комнате был из светлого дерева, у стены стояла широченная высокая кровать. Джойс с разбега кинулась на цветастое покрывало.
— Алек… Иди сюда…
Он наклонился и обнял ее.
Чуть позже Джойс жалобно прошептала:
— Смотри… комары…
Алек погасил свет. Ночь подкралась стремительно и неожиданно, пока они наслаждались друг другом. Под окнами, в маленьком, засаженном подсолнухами садике, раздалось журчание воды.
— По-моему, кто-то поставил охлаждаться белое вино! — У Алека весело заблестели глаза. — Я голоден и хочу выпить…
— Что мы будем есть?
— Я заказал раков и вино, но в остальном придется удовольствоваться дежурными блюдами. Ты не забыла, что у нас осталось пятьсот франков? За десять дней мы промотали пятьдесят тысяч. Если отец ничего тебе не пришлет…
— Этот человек позволил мне уехать без гроша в кармане!.. — со злостью в голосе воскликнула Джойс. — Никогда его не прощу… Если бы не старый Фишль…