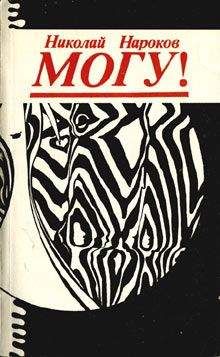— Что ты говоришь! — возмутился Миша. — Что ты говоришь! Да разве она… Она же совсем не такая, она…
— Не такая? — скверно усмехнулась Софья Андреевна. — А я — такая? Ты глупый мальчик, и ты еще ничего не понимаешь! Все мы, как наша Пагу: все мы хотим сахару и еще чего-то! Но ты… — резко оборвала она и выпрямилась. — Ты не вздумай изменять мне! Я…
— Нет, нет, нет! — сильно вырвалось у Миши.
Он хотел сказать своим «нет», что не может быть и речи о том, чтобы он изменил с Юлией Сергеевной, потому что Юлия Сергеевна «не такая», и он не осмеливается даже подумать о близости с нею. Но Софья Андреевна поняла его иначе. В его «нет» она услышала страх потерять ее, уйти от нее, променять ее на кого-нибудь, хотя бы даже на Юлию Сергеевну. Она услышала мальчишескую верность влюбленного мальчика и пришла в восторг. Подскочила к нему, что есть силы обняла его, прижалась всем телом и взволнованно залепетала:
— Нет?.. Ты не уйдешь от меня? Всегда будешь мой? Только мой? Она — кукла, глупая кукла! А я…
Весь этот день Софья Андреевна ходила с просветленным лицом и улыбалась про себя. А когда легла спать, то, продолжая улыбаться в темноте, поддразнивала себя заманчивым и, может быть, невозможным. «Да неужели же я в него влюбилась? Влюбилась? Я? Разве я могу влюбиться? Но ведь то, что было сегодня, это ревность, самая обыкновенная, бабская ревность! И как бы это было хорошо, если бы я на самом деле влюбилась… Хорошо? Ну, конечно, хорошо! Очень хорошо! Очень-очень хорошо!»
29 июля — день св. Юлии, именины Юлии Сергеевны. Этот день она с детства любила и каждый год отмечала его: «Это — мой день!»
Она родилась в Америке, все время прожила в ней и никакой другой жизни кроме американской не видела и не знала. Но по-русски говорила безукоризненно и считала этот язык своим родным. Любила и соблюдала русские обычаи, пекла на Пасху куличи, на масленицу жарила блины, украшала на Троицу дом зеленью и грустила о том, что никогда не была на спектаклях Московского Художественного Театра, не слыхала пасхального перезвона колоколов и не плавала по Волге.
Готовясь в этом году к «своему дню», она боялась, что праздничная суматоха, гости и разговоры утомят Георгия Васильевича, а поэтому решила: гостей на вечер не приглашать, а ограничиться кофе и легким угощением для тех, которые захотят днем приехать и поздравить.
Как всегда, она ждала «своего дня» с особым чувством, но в этом году к обычному добавилось новое. Она знала, что Виктор в этот день, конечно, придет к ним, и с тайной, но обостренной радостью ждала его, простодушно не замечая своей радости.
Она уже давно, месяца два-три, плохо понимала себя. То, что Виктор для нее не безразличен и что ее тянет к нему, было для нее несомненно, но ей доверчиво и уверенно казалось, будто ее чувство к Виктору легко и поверхностно. Оно сначала ничем не тяготило и не мучило, ничто в нем не страшило ее и не заставляло прятать и прятаться. Все, что было в ней, она принимала со своей обычной непосредственностью, и даже отдаленная тревога не беспокоила ее. «Глупости!» — весело и беспечно думала она. Но скоро увидела, что это слово ничего не решает и, конечно, ничего не решит. И неясное смущение начало шевелиться в ней.
Кто такой Виктор? О нем она знала мало. Знала, что он окончил университет здесь, в Америке, по специальности — электронщик и работает в какой-то фирме. В какой? В качестве кого? Этим она не интересовалась. Знала еще, что он одинок, что его родители и старший брат погибли во время войны в Германии и что у него есть богатая тетка, которая живет почему-то в Гонолулу и «опекает» его, т. е. иногда пишет ему письма с наставлениями и поучениями, а на Рождество присылает подарки: комнатные туфли, самопишущую ручку или настольные часы с будильником. И то, что он одинок, вызывало в Юлии Сергеевне сочувствие, нежность и желание приласкать его, как маленького мальчика-сиротку.
Виктора в их доме любили. «В нем чувствуется внутренняя сила и порядочность!» — говорил про него Георгий Васильевич. А Елизавета Николаевна уверяла, что он совсем не похож на современных молодых людей: для нее это была высшая похвала. Табурин же говорил, что Виктор «очень легкий, но ничуть не легкомысленный человек». И Юлия Сергеевна с удовольствием соглашалась:
— Да, с ним очень легко!
После «того разговора» на патио прошло уже больше месяца, и за это время Юлия Сергеевна видела Виктора раза 3–4. Все эти встречи были такими же, какими были и прежние: и год, и два назад. Ни одного неосторожного слова не сказала ни она, ни он. Но были взгляды, но была своевольная ласковость в голосе, но было внезапное молчание. Она знала: ее неясное чувство нарастает. И она со спокойным недоумением прислушивалась к нему, еще не думая о том, что завязывается узел, который она, быть может, не сможет развязать.
Раньше, до «того разговора» на патио, она была увереннее и почти без усилия пряталась за беззаботным словом: «Все это пустяки!» Если же в случайные минуты ей начинало казаться, что это, может быть, совсем не «пустяки», она начинала убеждать себя: «Ведь я же люблю Горика!» И, говоря это себе, ничуть не лгала: она любила мужа, он был ей близок и дорог. Но в то же время она видела, что эта ее любовь уже не та, какая была в ней десять лет назад: это не любовь влюбленности, не яркая любовь молодости, а совсем другая. Эта «другая» любовь богата, содержательна, наполняет ее многим и дает ей многое, но все же она не такая, какая была раньше. Очень может быть, что она более ценна и более нужна для ее самой и для ее жизни, потому что более крепка и более глубока. И если бы все изменилось, если бы она ушла к другой любви, это было бы несказанной болью не только для Георгия Васильевича, но и для нее самой. Она не говорила себе слова «измена», но изменить своей любви не смогла бы, как не смог бы голубь начать каркать вороной.
И было еще одно, что заранее казалось чудовищным и заранее пугало: ведь Георгий Васильевич болен, и всегда возможен второй удар. «А ведь это его убьет, если он узнает!» — не сомневалась Юлия Сергеевна и невольно вздрагивала, почти явственно чувствуя себя убийцей. Протягивала вперед руки, точно отстраняла от себя что-то, и кричала себе: «Нет! Нет! Нет!» И в своем «нет» не сомневалась так же, как и в том, что любит Георгия Васильевича.
Конечно, она знала, что миллионы решали и решают такой вопрос просто, без страха и без дум: остаются с мужем, скрывают и лгут. И от этой мысли она брезгливо коробилась. В памяти вставали десятки анекдотов про легкомысленных жен и мужей рогоносцев, фарсы с любовниками под кроватью и глумливые шутки, которые она иной раз читала в юмористических журналах. «Неужели я могу стать такой?» — спрашивала она и знала: стать такой она не может.
«Значит, надо задавить в себе свое чувство?» Эта мысль казалась единственно справедливой, потому что Георгий Васильевич и Виктор исключали в ней один другого и не могли стать соединимыми. Не могли стать соединимыми и ее чувства к ним обоим.
Но после «того разговора» на патио в ней многое очень легко и безо всякого усилия изменилось, как будто Табурин своей «ересью» раскрыл окно и осветил то, чего она раньше не видела: разная любовь не может ни порочить, ни уничтожать одна другую: «А разве мои чувства к ним не разные? Они же совсем разные! Ведь Горик самый дорогой друг для меня, самый близкий и ценный человек! А Виктор…» Она говорила себе о своей разной любви, и ей казалось, что все делается простым и понятным, все становится на свое место. «Она любит своего ребенка, и она любит мужа… Кому же она изменяет своей любовью к двум: ребенку или мужу?» То, что она не изменяет никому, было очевидно и радостно.
Дни шли за днями. Юлия Сергеевна не видела Виктора уже целую неделю, потому что он куда-то уезжал. Но она знала, что он уже возвратился, хотя к ним еще не заходил, и она догадывалась: «Это он бережет свой приход к моим именинам». И заранее очень чистосердечно радовалась тому, что он придет, она его увидит и будет говорить с ним. И легкое нетерпение, которое нарастало в ней, было ей приятно, она с удовольствием чувствовала его в себе, не замечая, что оно значительно глубже, чем она хотела бы.
Накануне именин, чуть только проснулась, вспомнила: «Завтра!» И улыбнулась, но тотчас же поймала себя: «Чему я улыбаюсь?» Но знала — чему, а поэтому улыбнулась еще светлее.
Потянулся день: такой, как всегда, с мелкими хлопотами, с домашними заботами. Юлия Сергеевна помогала Георгию Васильевичу одеться, приготовляла завтрак, складывала на рабочий стол папки с чертежами и счетами, ездила в лавки за покупками и говорила с Елизаветой Николаевной о том, что и как приготовить к завтрашнему дню. И все время чувствовала щекочущее и лукавое ожидание: «Завтра!» И не могла ни на чем сосредоточиться.
Часа в два позвонил телефон. Она взяла трубку.