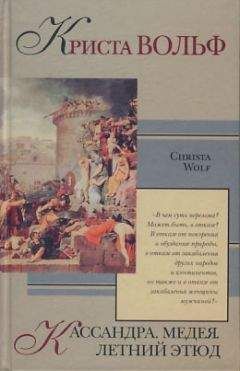Марпесса поет близнецам песню. Она выучилась ей, как и я, у Партены-няни, своей матери. Когда ребенок гаснет, говорится в ней, его душа, прекрасная птица, полетит к серебристой оливе, а потом медленно туда, где заходит солнце. Душа, прекрасная птица, иногда легкая, как касание пера, а иногда сильная, болезненно трепещет в груди. Война нанесла мужчинам удар в грудь и убила прекрасную птицу. Только когда война потянулась и за моей душой, я сказала «нет». Странно, движения души походят на движения детей в моем чреве — легкие касания, легкие трепетания, как во сне. Когда я впервые ощутила эти призрачные движения, они потрясли меня, словно рухнула плотина, и сдерживаемая ею любовь к детям навязанного мне мужа с потоком слез хлынула наружу. В последний раз я видела своих детей, когда неуклюжий Агамемнон споткнулся на пурпурном ковре и исчез за дворцовыми дверьми. Больше ни взгляда на них. Марпесса укрыла их покрывалом.
Можно было бы сказать, что отчасти и из-за них, ради них, потеряла я отца. У царя Приама было три способа усмирить непокорную дочь. Он мог объявить ее безумной. Он мог ее запереть. Он мог принудить ее к замужеству против воли. Правда, это средство было неслыханным. В Трое никогда не принуждали дочь свободного человека к браку. Когда отец послал за Еврипилом и его войском в Мизию, хотя было известно, что тот просил меня в жены в качестве награды, каждый понял: Троя погибла. Тут и во мне, и в Гекубе-царице, и в несчастной Поликсене, да и во всех женщинах Трои начался разлад: мы должны были ненавидеть Трою, чьей победы мы желали.
Сколько братьев — столько забот, сколько сестер — столько горя. О чудовищная плодовитость Гекубы!
Я думаю о Троиле, Гекторе, Парисе, и кровоточит мое сердце. Я думаю о Поликсене, и меня охватывает ярость. Пусть ничто не переживет меня, только ненависть. Пусть поднимется из моей могилы дерево ненависти и будет шептать: Ахилл — скот. Пусть повалят они это дерево, но каждая травинка будет повторять: Ахилл — скот, Ахилл — скот. Пусть каждый певец, осмеливающийся воспевать славу Ахилла, умрет в мучениях. Пусть между потомками нашими и этим скотом разверзнется пропасть презрения или забвения. Аполлон, если ты все же существуешь, исполни это. Тогда я не напрасно жила на свете.
Но я видела, как воины, бывшие на поле сражения, мало-помалу начинали верить лжи тех, кто там не был, ибо эта ложь им льстила. Так хорошо одно сочеталось с другим, что нередко во мне возникало искушение презирать людей. Женщины с гор отучили меня от высокомерия. Не словами. Тем, что они были совсем другие, чем я, обладали такими природными чертами, о каких я едва смела мечтать. Если хватит времени, я скажу еще о моем теле.
Брисеида, дочь Калхаса, потеряв Троила, почти лишилась рассудка. Как много ни слышала я плача женщин по убитым, но от крика Брисеиды, когда хоронили Троила, стыла кровь. Долгое время она никому не позволяла заговаривать с ней и сама ни с кем не говорила. Первым ее словом было тихое «да», когда я передала ей послание от ее отца Калхаса. Она хочет, если на то будет воля царя, перейти на ту сторону к своему изменнику-отцу. Царь безо всяких колебаний и, так мне показалось, с радостью согласился на это. Разумеется, дочь в таком горе должна быть с отцом, которого она любит. Вполне охотно, подумала я, царь Приам избегает необходимости видеть такую печаль. Что ее скорбь подрывает моральные устои — такое уже шептали во дворце. Тут, разумеется, возмутился Эвмел. «Как, — спросил он лицемерно, — царь отдает предпочтение узам крови перед государственными?» — «Разумеется», — сказал Приам. Он был таким же, как прежде, я любила его. А когда он проклял меня в совете, это что, показывает, как он ко мне привязан? Нет, со мной следует поступать еще суровей, чтобы я почувствовала, что мой отец, добрый царь Приам, может быть и чужим.
Я вызвалась, и это тоже всем принесло облегчение, всем, кроме Эвмела, проводить Брисеиду к грекам, как ее подруга, с нами пошли двое моих братьев и пятеро воинов, все без оружия. Никто из нас, троянцев, не сомневался, что троянке, которая идет к отцу, подобает достойная свита. Но какое смятение, чуть ли не испуг, среди греков: Калхас сердечно и бережно поздоровался с дочерью и объяснил мне странный прием, какой мы встретили. Ни один из греков никогда не решился бы отправиться безоружным в лагерь врагов. «Но ведь у них было бы наше слово!» — воскликнула я. Калхас-прорицатель улыбнулся: «Слово! Ступай отсюда, Кассандра, и чем скорее, тем лучше. Мне пришлось их запугать, чтобы они не прикончили твоих безоружных братьев». — «Запугать? Чем?» — «Силой колдовства, которой обладает у нас каждый безоружный воин, особенно если он сопровождает женщину». — «У нас?» — «У нас, троянцев, Кассандра». Первый раз в жизни я видела человека, сжигаемого тоской по родине.
Мы стояли у моря, волны лизали нам ноги. За деревянным защитным — от нас — валом, воздвигнутым греками вдоль берега, я видела тьму оружия, мечей, копий, пращей, щитов. Калхас понял мой взгляд и ответил: «Вы проиграли». Я решила испытать его: «Но мы можем вернуть Менелаю Елену». — «В самом деле можете?» Это было как удар. Он знает. Неужто они все знают, все, что так гордо прохаживаются сейчас и глазеют на меня и Брисеиду: деловитый Менелай, все примечающий Одиссей, Агамемнон, сразу показавшийся мне отталкивающим, и огромный, как дерево, Диомед из Аргоса, долговязый юноша. Они стояли, уставившись на нас. «В Трое так не смотрят на женщин», — сказала я на нашем языке, которого никто здесь не понимал, кроме Калхаса.
— Ты так думаешь? — ответил он, не шелохнувшись. — К этому привыкают.
— И сюда ты взял Брисеиду? К ним?
— Она должна жить, — сказал Калхас. — Пережить это. Больше ничего. Жить, и только, любой ценой.
Теперь я знала, почему Калхас остался у греков.
— Нет, Калхас, — сказала я, — любой ценой? Нет.
Сегодня я думаю иначе. Я была так спокойна тогда. Сейчас все взбудоражено во мне. Я буду умолять эту страшную женщину о жизни. Я паду пред нею ниц. Клитемнестра, запри меня навеки в самую темную темницу. Дай мне только самое малое для жизни. Но молю тебя, пришли писца, нет, молодую рабыню с острой памятью и сильным голосом. Распорядись, чтобы она пересказывала все, что услышит от меня, своей дочери. Та дальше — своей, и пусть так будет и впредь. Пусть рядом с потоком песен о героях, хоть с трудом, пробьется маленький ручеек и тоже достигнет тех далеких, может быть более счастливых, людей, которые будут жить когда-нибудь.
И я смогла поверить в это хоть на один день?
Убей меня, Клитемнестра. Умертви. Скорее.
В цитадели пьют. Разгульный шум, я хотела бы не слышать его. Он нарастает. Те, кто придет за мной, будут ко всему еще и пьяны.
Когда мы передавали Брисеиду ее судьбе, героя Ахилла мы не видели. А он был ее судьбою. Где-то спрятавшись, он видел нас. Как пылало мое сердце, когда я ее обняла. С застывшим лицом она стояла, прислонившись к Диомеду, которого видела впервые в жизни. Он казался неуклюжим и грубым. Передо мной встал Троил, мой брат, нежный, совсем еще мальчик. «Брисеида, — тихо проговорила я, — что ты делаешь?» — «Он любит меня, — ответила она. — Он говорит, что любит меня». Я увидела: он опустил на нее руку, как поступают с рабыней. Греки вокруг нас громко расхохотались грубым мужским смехом. Отвращение и страх охватили меня при мысли, какова любовь греков.
Но где же Ахилл? Я назвала его имя, сверлившее мне душу, и Калхасу наконец изменила выдержка. Маска упала с его лица, и передо мной стоял троянец, друг моих детских лет, разумный, благожелательный советник моего отца. Он отвел меня в сторону, не обращая внимания на подозрения, которые могли возникнуть и возникли у греков, когда он, не таясь, поведал мне тайну, угнетавшую его. Ему нелегко. Ахилл. С Ахиллом и у него сложности. Сам Ахилл и греки уверяют, будто он сын богини. Ее имя Фетида. Жрецам это представляется сомнительным. Немало оружия и вина роздал Ахилл ради распространения этой легенды. Тех, кто осмеливается в ней усомниться, ждут самые жестокие кары, а каждый знает: Ахилл умеет покарать, как никто другой. И то, что мне сейчас рассказывает Калхас, в любую минуту может обернуться смертью. Так вот, перед началом войны Одиссей и Менелай собрали греческих союзников — он, Калхас, присутствовал при переговорах и с тех пор знает, что такое быть греком, — цари пошли и к Ахиллу. Его мать, богиня она или не богиня, сказала, что его нет, что он уехал, далеко, очень далеко. Одиссей, который разбирается в людях, а до известной степени и в себе самом, что встречается гораздо реже, Одиссей сразу же заподозрил неладное, оставил Калхаса и Менелая, исподтишка презираемого всеми греками с тех пор, как у него похитили Елену, оставил в обществе женщины, а сам, повинуясь своему чутью, нашел Ахилла в отдаленной спальне на ложе с другим юношей. И так как опытный и дальновидный Одиссей сам хотел уклониться от командования воинами в сражении, прикинувшись дурачком... Как? Вы этого не знали? Да, что мы вообще знаем о наших врагах! Так вот, Одиссей не мог стерпеть, чтобы кто-то ускользнул, когда он, Одиссей, должен проливать свою кровь, и в самом прямом смысле за шиворот потащил Ахилла на войну. Вполне возможно, что Одиссей уже пожалел об этом. Ахилл преследует всех: юношей, к которым он действительно вожделеет, и девушек — в доказательство, что он такой, как все. Чудовищно жестокий в бою, чтобы все видели, что он не трус, он не знает, чем занять себя после битвы.