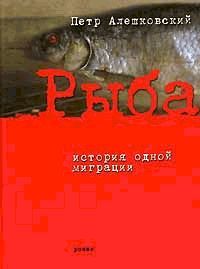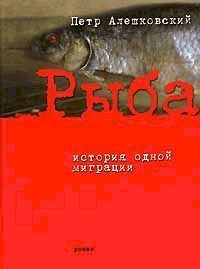Петровича я помнила – препротивный был дядька, зануда из зануд, я не могла представить себе, что моя бойкая мама найдет с ним свое счастье. Но она нашла, прожила с дедом одиннадцать лет, то ли женой, то ли медсестрой – у Петровича на старости разыгралась тяжелая астма, ходила за ним, как за младенцем, а потому моих детей, когда они подросли, на лето не звала – за внуками и больным ей было не доглядеть.
Я, дура, обижалась. Жизни наши разошлись, в Пенджикент меня больше не тянуло. Известие о женитьбе Ахрора, кажется, никак меня не задело, помню, правда, он снился мне какое-то время после письма, а потом я и думать о нем забыла. Геннадий же не снился мне никогда, он скорей вставал перед взором, словно был рядом и только отлучился на минутку. Я ждала вестей, но их не было. Мать его жила в Тверской области, в Вышнем Волочке. Может быть, он подался туда? В Душанбе он остался после армии.
Так тянулся год, последний учебный. Виктор шел на золотую медаль, у меня отметки были чуть похуже, но я тоже училась без троек. Виктор решил, что станет кардиохирургом. О том, чтобы поступать в
Таджикистане, нечего было и думать – там все решали деньги, которых у нас не было. Марат Исхакович советовал мне ехать в Калинин – тамошний медицинский славился, и можно было пробовать поступать без блата. Виктор метил в Москву и только в Москву и меня тянул за собой.
– Мы поступим, голову на отсечение даю, ты все знаешь не хуже меня.
Каждый вечер мы с ним занимались. В выходные Марат Исхакович гонял нас по химии, а его жена Ольга Романовна, завуч в школе, проверяла наши сочинения. Я мечтала стать терапевтом. Теперь если о чем-то и жалею, то об этой упущенной возможности.
В мае, в канун выпускных, в дверном проеме ординаторской появился
Геннадий. В гражданке, с легкой деревянной палочкой. Необычный, серьезный, таким я его еще не видела.
– Конфетка! – Он расставил руки, миг – и я уже обнимала его, крепко прижимаясь к его груди. – Пойдем, мне нужно многое тебе рассказать.
Я бросила смену, мы ушли в больничный сад. Геннадий заметно хромал – московская операция не помогла, он и сейчас не может согнуть ногу до конца.
Из сада мы отправились в наше общежитие. Геннадий купил шампанского и конфет. Я не шла – летела, его проблемы казались мне полной ерундой, главное, что я смогла, рассказала – в обмен на его мелочные страхи выложила свои. Геннадий крепко прижал меня к себе.
– Дуреха, ни в чем тебе не отказано, тебя надо любить, сильно любить, пошли скорее, я весь год о тебе мечтал.
Глупый, он не писал – боялся, что не приму инвалида. Выходило, что он молчал перед отъездом, потому что жалел меня!
Страх и сомнения – все отлетело, голова, всю жизнь не дающая мне покоя, отключилась. Его сила, его неуклюжая мягкость вмиг лишили меня рассудка. В какой-то момент ощутила – его рука ласково, но настойчиво запечатывает мне рот: я кричала, а стены в общежитии были картонные. Затем мы долго лежали, немые, на мокрой простыне, я прижималась к его спине, упругой и крепкой, как круп жеребца, пахнувшей едким, сладким потом. Ладонь, сложившись домиком, прикрывала его срам – так мать оберегает уснувшее дитя. Пустота вокруг потрескивала разлетевшимся от наших тел электричеством – песчинки на штукатурке вспыхивали голубым и зеленым, а луна заглядывала в форточку, раскрасневшаяся, хитрющая и щедрая, похожая на лицо старика таджика, у которого я девочкой всегда покупала в магазине молоко из холодильника. Плечики бутылки были усеяны бисеринками влаги, как плечи Геннадия, украдкой я всегда слизывала их, тогда же в общежитии, дотянуться до его плеча языком не было сил, даже заснуть я не могла.
Мечта стать врачом рассыпалась в одно мгновенье. Утром мы подали заявление в загс.
Через день в больницу привезли сильно обгоревшего парня со стройки.
Боль не отпускала его – даже во сне, одурманенный димедролом с промедолом, он кричал и просыпался: глаза полны ужаса, лоб в холодном поту. Несколько раз я садилась рядом, брала его руку, но поймать волну не смогла, мысли были о другом.
7
Дробь рассадила коленку Геннадия, подстрелив его на взлете, он мечтал о больших делах и больших погонах, хотел идти учиться в академию – вышло иначе. В милиции ему предложили работу в архиве, но киснуть там Геннадий не мог. Разругался с начальством, получил расчет, ушел в никуда. Ни жилья, ни работы. Я – беременная. Жилье давали на стройке, но не хромому же таскать раствор и укладывать кирпичи. Свой дом строил и мясокомбинат. Не раздумывая, Геннадий устроился туда “бойцом”.
Он пришел домой и гордо заявил:
– Я устроился на мясокомбинат за жилье.
– Справишься?
– Легко. Платят от выработки, до трех сотен. Проживем, Конфетка!
Нас поставили на очередь, и через полтора года мы въехали в двухкомнатную квартиру – Геннадий ее заработал.
За смену боец забивал до двух сотен голов крупного рогатого скота. Я собирала мужа на работу, стирала спецовки, изгоняла запах смерти, пропитавший его белье, обязательно проглаживала комбинезон, наводила стрелки на брюках, старалась думать о нем, а не о том страшном, о чем он рассказывал с деланым смешком, рисуясь передо мной. В больнице, на койке он не рисовался – боролся за жизнь и победил, здесь он боролся с самим собой. Его глаза иногда тускнели, становились отрешенными, как глаза старого коня, ожидающего отправки на бойню. После ужина он теперь часто сидел, уставившись в одну точку, отключившись, не реагируя на мои слова.
Я пыталась уговорить его уйти. На все следовал резкий ответ:
– Нет! Чем я хуже других?
– Ты лучше, потому и надо.
– Замолчи!
Он повышал голос. Отворачивался или уходил в комнату. После таких стычек ночью на ласки не реагировал: Геннадий был упрям, как пенджикентские ослики.
На восьмом месяце я ушла с работы и сидела дома, ждала его со смены.
Смотрела в окно, старалась не пропустить. Стоило мне заметить его, ковыляющего через двор от остановки автобуса к нашему дому, у меня начинала кружиться голова. Я срывалась к двери, он входил, здоровой ногой переступал порог, затем перекидывал хромую, устало здоровался, шел в ванную мыть руки. Я подавала ему чистое полотенце – таков был ритуал. Прижимаясь к нему ночью, всей душой ощущала, как быстро меняется то незримое, что было в нем на больничной койке, – он словно отрастил защитный панцирь, пробиться сквозь эту защиту было мне не по силам. Стал капризен, требователен, часто цеплялся ко мне по пустякам. Я обижалась, но прощения он не просил, похлопает только утром по плечу, как хозяин скотинку, это и было его “прости”.
В больнице его, пережившего такой жестокий бой, не мучили кошмары, теперь Геннадий часто кричал во сне, вскакивал ночью и долго курил на кухне. Слабости своей он стеснялся. Стоило мне выскочить за ним вслед, как он набрасывался на меня:
– Что тебе надо? Спи!
– Гена, что случилось?
– Спи, я сказал!
Глядел исподлобья, весь налитый какой-то незнакомой, дурной силой, словно сдерживался, чтобы не закатить мне оплеуху. Я уходила реветь в подушку. Он возвращался немой и чужой, ложился к стене, безмолвно засыпал.
Еще у него появилась нехорошая черта – все кругом были отвратительные, все строили ему козни, обсчитывали его. С этим невозможно было бороться.
– Ты все придумал, надо больше доверять людям.
– Дура, что ты видела в своей деревне!
Мог и похлеще завернуть. Мама никогда не обзывала меня грубыми словами и если говорила “поросятина”, то только в шутку, ласково.
Первый раз, когда он вернулся пьяный, я готовила баклажанную икру -
Геннадий ее очень любил. Он сразу прошел в комнату, скинул одежду на пол, рухнул на кровать и захрапел. Я накрыла его одеялом, поставила на тумбочку стакан с подслащенной лимонной водой, ушла на кухню.
Поужинала в одиночестве. Пошла спать, думала, как бы примоститься на кровати, чтобы его не касаться, – не выношу запах перегара. Кровать была мокрая. Кое-как я его растолкала, стащила на пол. Сколько раз мне приходилось перестилать мокрые простыни в больнице, и я почти не замечала резкого запаха мочи, но здесь, дома, я едва справилась с подступившей к горлу тошнотой. Стащила белье в ванную, замочила в тазу, выволокла на балкон матрас, перестелила простыни. Он молча наблюдал за моими действиями, развалившись на полу. Хлопал глазами и молчал.
– Ложись спать, пьяница несчастный!
Качаясь, он встал, худой, длинный, голый, заложил руки за голову и вдруг наставил себе рога, издал утробный рев, согнулся, встал на колени и пополз на меня. Приблизил пьяное лицо к моему лицу, промычал, дохнул перегаром, скользнул щекой по моей щеке, уткнулся лбом в подушку. Затем издал звук, похожий на смех, отнял лицо от подушки, повел рогатой головой несколько раз, изображая быка, и на коленях уполз на кухню. Я лежала, как мышка, одеяло не грело. Из кухни не доносилось ни звука. Потом Геннадий вернулся, аккуратно пробрался к стенке и тут же захрапел.