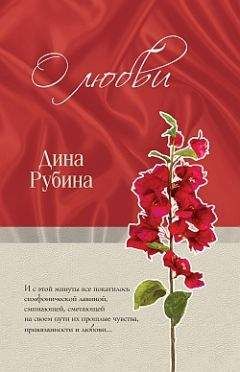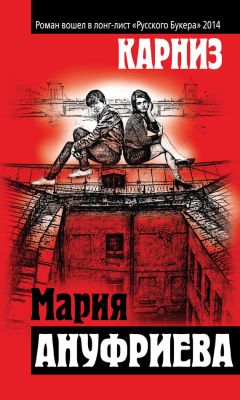Через минуту пришла, попыхивая, продолжала говорить все быстрее, грубее, откровеннее.
– Приехала сюда, попала в кибуц на севере... Хороший кибуц, симпатичные простые люди... Поначалу держалась, учила язык, по утрам работала... Потом однажды напилась с тоски, и все пошло по новой – блядство, пьянки, марихуана... Ну, скажите – кто это должен терпеть? Конечно, в конце концов меня выгнали из кибуца – за какую-то очередную драку с моим тогдашним сожителем...
Помню, утро: стою на дороге, ловлю попутку – деваться мне некуда, кроме как добираться в Тель-Авив, в министерство абсорбции. Первым остановился один типичный «дос» на «фольксвагене». И – с ходу, едва отъехали, стал запускать лапу куда его не просили. Я и выдала все, что о нем, поганце, думаю. Он немедленно остановил тачку и выпихнул меня на шоссе... Интересно, что потом он оказался нашим соседом по подъезду. В нашем поселении, я – как вы, наверное, поняли по номеру телефона, живу в поселении под Иерусалимом... Да, соседушка... Приветливый, вежливый... Жена такая квелая, пятеро детей...
– И как же вы общаетесь?
– Ну что вы, он же меня не узнал! Меня узнать невозможно: я – религиозная женщина, в парике, в надлежащем прикиде... Так на чем я?.. Ах, да – дорога, зимнее утро, холод собачий... Я в короткой юбчонке и кофточке... Вторым попался пожилой «марокканец», который начал с того же. И я что-то, знаете, – замерзла, что ли? – расплакалась: ну, думаю, во что я превратилась, если при взгляде на меня у мужиков только одна мысль и возникает. И говорю ему: «А если б твоей дочери такое предложили? Если б она вот так, чужая всем, голодная, без копейки денег, зависела на дороге от доброй воли проезжего кобеля?.. Тогда он, знаете, изменился в лице, остановил машину у придорожного ларька, купил мне питу, довез до самого министерства и напоследок сунул мне в руку мятую двадцатку... Знаете, у этих простых восточных людей гораздо мягче сердце, чем у нас...
...Ну, не буду я морочить вам голову своими дальнейшими похождениями – они вполне омерзительны.
В конце концов я узнала, что где-то у хабадников можно приткнуться в таком их общежитии, что ли, нечто вроде ешивы для девушек. Но, конечно, без комедии с униформой не обойтись – знаете, эти платья с длинными рукавами в самую жару, эти черные колготки в июле... Пришла я, значит, стою на лестничной площадке четвертого этажа у них там, где мне разъясняют условия приема, и думаю: да ладно, что мне, впервой прикинуться ради крыши над головой, нормальной еды! И как только вот этими самыми гнусными словами подумала, тут же ноги у меня подкосились, и я покатилась по лестнице вниз, чуть не до первого этажа.
– Споткнулась?
– Да нет... Это мне дали понять, что я последнее терпение вычерпала и дальше чтоб, мол, не обижалась... Ну, я все правильно обычно понимаю...
Во-от... и, знаете, стала я там тихонько жить, учиться... очень всех сторонилась поначалу, потом немного отошла... Вижу, девчонки и эти... училки их... вроде не брезгуют мной, а ведь я так по-садистски сразу все им о себе рассказала! Нет, вижу: не брезгуют... И в конце концов поняла, что только эти люди, которым все обо мне известно, – только они приняли меня всем сердцем, несмотря ни на что, и любят меня, и... это единственное место и единственная часть общества, где меня готовы принять такой, какая я есть... Прошло еще полгода, и я сказала: сватайте меня...
Она помолчала мгновение и легко проговорила:
– Вот, собственно, и все... Муж у меня очень хороший человек, программист, умница, так что все у меня отлично... Вот и живем...
– Он из религиозной семьи? – спросила я.
– Да нет, он... Он, понимаете, своеобразный человек... Полурусский, полуяпонец... Прошел гиюр, стал евреем...
Я вспомнила, по какому поводу ей позвонила, вспомнила дурацкий ее вопрос в прямом эфире. Дурацкий – на фоне всей ее жизни...
– А сколько у вас детей?
– Трое с половиной, – сказала она. – Четвертый родится через пять месяцев...
Собственно, разговор был исчерпан, история кончена, листок, лежащий передо мною на телефонном столике, исчиркан беглыми закорючками... Надо было прощаться. Я стала говорить какие-то слова, которые, как мне казалось, она должна была от меня услышать. Но она перебила.
– Все у меня в порядке... – повторила задумчиво. – Все у меня хорошо... Хороший муж, спокойный, мягкий, добрый человек... Только, конечно, никогда не смогу я его полюбить.
– Почему?! – воскликнула я, потрясенная упрямством этой несмиренной женщины.
– Душа чужая... – проговорила она хрипатым, старческим своим голосом. – Душа-то чужая...
К открытию выставки все уже было готово. Он сидел в галерее, пил с Шерманом холодное пиво, принесенное из соседней забегаловки, и оглядывал картины на стенах.
Это была первая его серьезная выставка в стране. Прошел год после приезда – целый год, в течение которого он болтался по городам в поисках работы, по галереям в попытках заинтересовать хозяев своими картинами, по кибуцам и сельхозкооперативам, стараясь получить заказы на раскрашивание водонапорных башен.
Наконец Шерман дал согласие выставить его работы к празднику Суккот на целые две недели. Время было хорошее, осеннее, туристическое, – Митя строил планы и ждал от этой выставки некоего поворота судьбы.
– Осталось последнее, – сказал Шерман, прихлебывая пиво и отирая толстой пятерней пену с усов. – Сейчас приедет специалист по освещению... Я люблю, чтобы всем занимались профессионалы, – сказал он, помолчав.
Казалось странным, что у этой пивной бочки, обсиженной бородавками, одна из самых эстетских и дорогих галерей в стране.
– Я не как некоторые: повесил картины, и будь что будет, – добавил он. – Последнее слово в экспозиции у меня говорит специалист по освещению.
Тут раздался грохот, и в витрину галереи чуть не влетел мотоцикл. Юноша, примчавший на нем, – необычайно хрупкий рядом со своим блестящим черным быком, – снял шлем, тряхнул гривой волос и оказался девушкой. Это и был специалист по освещению.
Она вошла, улыбаясь широкой клоунской улыбкой, шлем свисал на ремне со сгиба тонкого локтя, как корзинка с ягодами. Мгновенно стала командовать, спорить по экспозиции, перевесила три картины местами и при этом смеялась, смеялась – странная особа: ничего смешного Митя во всем этом не находил. Но была она очень хороша, впоследствии выяснилось, откуда в ней странное сочетание восточной отрешенности и западной деловитости. Восточный «крой» внешности – длинные брови на узком смуглом лице, и особенное, стремительное изящество походки – она заимствовала от отца, иракского еврея, прибывшего в страну в конце пятидесятых годов. Прозрачные, чуть выпуклые серые глаза с россыпью золотых крапинок на радужке были материнскими. Ее мать вывезли перед войной из Германии в Палестину дальновидные и богатые родители. Эта взрывчатая смесь породила пятерых шумных, резких в движениях, обуянных страстью к мгновенному переключению жизненных скоростей, горластых детей обоего пола. Семья содержала два больших магазина электротоваров – в Тель-Авиве и Яффо и фирму по установке освещения разных объектов.
Впрочем, все это выяснилось позже.
Несколько споткнувшихся друг о друга взглядов, две-три фразы (исключительно по делу – она действительно была классным специалистом: где-то убрала прямой свет, где-то направила его прямо на картину, где-то приглушила, где-то вдруг осветила пустой угол с одинокой плетеной корзиной, – и экспозиция выставки мгновенно приобрела респектабельный, неуловимо западный, дорогой вид), клоунские складочки вокруг ее всегда смеющегося рта, точные и плавные взлеты-движения рук, унизанных дешевыми серебряными браслетами, какими – целыми гроздьями – торгуют арабы на «шук пишпишим», блошином рынке в Яффо, и главное, его, Мити, неожиданное и несвойственное ему с женщинами смущение – словом, минут через двадцать поняли оба, что влипли.
Так началась эта легкая забавная связь...
* * *
В то время он за гроши снимал мастерскую в старом арабском доме в районе Яффского порта, неподалеку от «шук пишпишим» – крикливого, пестрого, знойного, пропахшего корицей и кориандром, маслами и марихуаной, пропитанного затхлыми запахами старых вещей, свезенных сюда эмигрантами разных стран и эпох, мерцающего из тьмы глубоких лавок зеленоватой медью блошиного рынка, расползшегося разлапистым крабом по дюжине окрестных переулков.
* * *
Железные, крашенные ярко-синей масляной краской ставни высоких мавританских окон после полудня защищали комнату от прямых лучей палящего солнца.
Она приходила часам к трем, легкой узкой ладонью выбивала по рассохшейся двери дробь, он открывал, они обнимались в дверях и, проковыляв так несколько шагов, валились на ощупь на широкий деревянный топчан, застланный пестрым восточным покрывалом, купленным по дешевке все на том же блошином рынке.
* * *
...Она серьезно занята была в семейном бизнесе, но, кроме того, мастерила замысловатые украшения из бусин старого тусклого коралла, меди и серебра, лепила из глины и обжигала потешные фигурки танцующих евреев, которые быстро распродавались в дорогих туристических галереях в Яффо, писала стихи и – потрясающе играла на тамбурине.