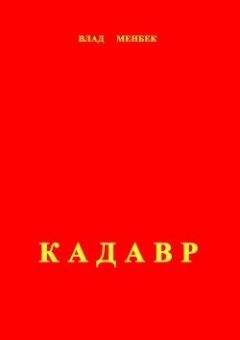— боюсь, у меня крыша скоро поедет, — говорю я ему. — одиннадцать лет на одной работе, часы волочатся по мне мокрым говном, у-ух, а лица уже давно растаяли до нулей, балабонят, палец покажи — ржут. я не сноб, Санчес, но иногда это настоящий театр ужасов, и единственный конец ему — смерть или безумие.
— здравомыслие — несовершенство, — отвечает он, закидывая в рот пару пилюль.
— господи, да я в том смысле, что меня преподают в нескольких университетах, какой-то профессор по мне даже книжку пишет… перевели вот на несколько языков…
— всех перевели, стареешь, Буковски, слабнешь. держи хвост пистолетом. Победа или Смерть.
— Адольф.
— Адольф.
— выше ставки — больше проигрыш.
— прально, или все наоборот для обычных людей.
— ну и на хуй.
— ну.
ненадолго становится тихо. потом он говорит:
— можешь к нам переехать.
— спасибо, старик, конечно. но я, наверное, сначала хвост пистолетом попробую.
— смотри, твоя игра.
у него над головой висит черная доска, на которую он белыми буквами наклеил:
ПАЦАН НЕ ПЛАКАЛ И ТЫЩУ КИМ НЕ РВАЛ.
Голландец Шульц на смертном одре[21]
ДЛЯ МЕНЯ ГРАНД-ОПЕРА — ЯГОДКИ.
Аль Капоне[22]
NE CRAIGNEZ POINT, MONSIEUR, LETORTUE.
Лейбниц[23]
НИКАКИХ БОЛЬШЕ.
Девиз Сидящего Быка[24]
КЛИЕНТ ПОЛИЦЕЙСКОГО — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ.
Джордж Джессел[25]
КТО НЕНАДЕЖЕН В ОДНОМ, ТОТ НЕНАДЕЖЕН ВО ВСЕМ.
НИ РАЗУ НЕ ВСТРЕЧАЛ ИСКЛЮЧЕНИЯ. И ВЫ НЕ ВСТРЕТИТЕ. ДА И НИКТО ДРУГОЙ.
Детектив Баккет[26]
АМИНЬ ЕСТЬ ВЛИЯНИЕ ЧИСЕЛ.
Пико Делла Мирандола, в своих каббалистических суждениях[27]
УСПЕХ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРИЛЕЖАНИЯ — ИДЕАЛ КРЕСТЬЯНСТВА.
Уоллес Стивенс[28]
ДЛЯ МЕНЯ ЛУЧШЕ МОЕГО ГОВНА ВОНЯЕТ ТОЛЬКО СОБАЧЬЕ.
Чарльз Буковски
И ВОТ ПОРНОГРАФЫ СОБРАЛИСЬ В КРЕМАТОРИИ.
Энтони Блумфилд[29]
МАКСИМА СПОНТАННОСТИ — ХОЛОСТЯК САМ СЕБЕ МЕЛЕТ ШОКОЛАД.
Марсель Дюшан[30]
ЦЕЛУЙ ТУ РУКУ, ЧТО НЕ МОЖЕШЬ ОТРУБИТЬ.
Поговорка таурегов
ВСЕ МЫ В СВОЕ ВРЕМЯ БЫВАЛИ ЛОВКИМИ ПАРНЯМИ.
Адмирал Сент-Винсент[31]
МОЯ МЕЧТА — СПАСТИ ИХ ОТ ПРИРОДЫ.
Кристиан Диор[32]
СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ — Я ХОЧУ ВЫЙТИ.
Станислав Ежи Лец[33]
МЕРНЫЙ ЯРД НЕ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРЕДМЕТ, КОТОРЫЙ НАДО ИМ ИЗМЕРИТЬ, — ДЛИНОЮ В ЯРД.
Людвиг Витгенштейн[34]
я немного разбухался пивом.
— слушай, мне это последнее нравится: «предмет, который надо изуверить, не обязательно должен быть длиною в ярд».
— мне кажется, так даже лучше, хотя написано не так.
— ладно, как там Кака? это говно на детском языке, и женщины сексуальнее я ни разу не видел.
— я знаю, все началось с Кафки, ей раньше нравился Кафка, и я ее так называл, потом она сама имя поменяла. — он встает и подходит к фотографии. — поди сюда, Буковски. — я мечу пивную банку в мусорный бак и подхожу, — это что? — спрашивает Санчес.
я смотрю на фотографию, очень хорошая фотография.
— ну, похоже на хуй.
— что за хуй?
— твердый, большой.
— это мой.
— и что?
— не замечаешь?
— чего?
— спермы.
— да, вижу, не хотел говорить…
— а почему? что с тобой вообще такое?
— не понимаю.
— я в том смысле, ты видишь сперму или нет?
— ты о чем?
— о том, что я ДРОЧУ, неужели не понимаешь, как это трудно?
— это не трудно, Санчес, я это постоянно делаю…
— ох, ну ты бычара! я в том смысле, что присобачил к камере шнурок. представляешь себе, какая это засада — оставаться неподвижно в фокусе, эякулировать и спускать затвор камеры одновременно?
— мне для этого камера не нужна.
— а кому нужна? ты, как обычно, не рубишь фишку. кто ты, бля, такой, весь из себя переведенный на немецкий, испанский, французский и так далее, — этого мне не понять! смотри, соображаешь, у меня ТРИ ДНЯ ушло, чтобы сделать такую ПРОСТУЮ фотографию? а ты знаешь, сколько раз мне СДРАЧИВАТЬ пришлось?
— 4?
— ДЕСЯТЬ РАЗ!
— ох господи! а как же Кака?
— ей фотка понравилась.
— я в смысле…
— боже милостивый, мальчонка, я лишен языка, чтоб ответить на твою простоту.
он уходит к себе в угол и снова плюхается в кресло посреди проводов, кусачек, переводов и гигантской записной книжки ГОРЬКИЙ ПРЫЖОК, у которой к черной обложке приклеен нос Адольфа в обрамлении берлинского бункера на заднем плане.
— я сейчас кое над чем работаю, — сообщаю я ему. — пишу такой рассказ: прихожу это я брать интервью у великого композитора. он пьян. я напиваюсь тоже, а еще там есть горничная. мы ударяем по вину. он наклоняется ко мне и говорит: «Кроткие Унаследуют Землю»[35]…
— во как?
— а потом добавляет: «в переводе это означает, что дураки окажутся нахрапистее».
— паршиво, — говорит он. — но для тебя сойдет.
— только я не знаю, что мне дальше делать. у меня эта горничная ходит в такой коротенькой штучке, и я не знаю, как мне с нею поступить, композитор напивается, я напиваюсь, а она ходит, задницей светит, вся такая жаркая, как геенна огненная, и я не знаю, что мне делать. подумал, может, спасти сюжет тем, что я хлещу горничную пряжкой ремня, а затем отсасываю у композитора. но я никогда ни у кого в рот не брал, никогда не хотелось, я квад ратный, поэтому я бросил рассказ на середине и не закончил до сих пор.
— каждый мужик — гомик, хуесос; каждая баба — кобла, чего ты переживаешь?
— а того, что, если мне плохо, я никуда не гожусь, а я не люблю никуда не годиться.
мы сидим еще сколько-то, а потом сверху спускается она, эти тускло-желтые волосенки.
первая женщина, которую я, наверно, мог бы съесть.
но она проходит мимо Санчеса, и тот лишь кончиком языка облизывает губы, и мимо меня проходит, точно отдельные шарикоподшипники волшебства изнутри колышут ее плоть, пускай небеса расцелуют мне яйца, если это не так, и она волной проскальзывает мимо в сиянии славы, словно лавина, расплавленная солнцем…
— привет, Хэнк, — говорит она.
— Кака, — смеюсь я.
она заходит к себе за стол и давай рисовать свои кусочки живописи, а он сидит, Санчес этот, бородища чернее власти черных, но спокойный, спокойный, никаких предъяв. я пьянею, говорю гадости, все, что угодно, говорю. потом утомляю. мычу, бормочу.
— ох, п-пардон… не х-хотел бы п-портить вам вечер… п-ростите, зас-ранцы… ага… я убийствен, но никого не убью. во мне есть класс. я Буковски! меня перевели на СЕМЬ ЯЗЫКОВ! Я — ГЕРОЙ! БУКОВСКИ!
падаю мордой вниз, пытаясь снова разглядеть фотку с суходрочкой, цепляюсь за что-то. за собственный ботинок. у меня дурная привычка, черт бы ее брал, снимать ботинки.
— Хэнк, — говорит она, — осторожнее.
— Буковски? — спрашивает он. — ты как? — поднимает меня. — старик, мне кажется, тебе сегодня лучше остаться у нас.
— НЕТ, ЧЕРТ ПОБЕРИ, Я ИДУ НА БАЛ ДРОВОСЕКОВ!
дальше помню только, что он взвалил меня на плечо, Санчес то есть, и поволок в свою берлогу наверху, понимаете, туда, где они с его женщиной своими делами занимаются, а потом я уже лежу на кровати, он ушел, дверь закрыта, а снизу какая-то музыка, и смех, обоих, но добрый такой смех, без всякой злобы, и прямо не знаю, что мне делать, лучшего же не ждешь, ни от удачи, ни от людей, все тебя в конечном итоге подводят, вот так, а потом дверь отворилась, свет чпокнул, передо мной стоял Санчес…
— эй, Бубу, вот бутылочка хорошего французского вина… тяни медленно, так полезнее всего. так и заснешь. будь счастлив. не стану говорить, что мы тебя любим, это слишком легко. а если захочешь спуститься, потанцевать и спеть, так это нормально, делай что хочешь. вот вино.
он протягивает мне бутылку. я подношу ее к губам, словно какой-то безумный корнет, снова и снова. сквозь драную занавеску прыгает кусочек изношенной луны. совершенно спокойная ночь; не тюрьма; далеко не тюрьма…
наутро, проснувшись, спускаюсь поссать, поссав, выхожу и вижу, как они спят на узенькой кушеточке, где и одно-то тело едва поместится, но они — не одно тело, и лица их — вместе и спят, тела их вместе и спят, чего уж тут хохмить??? мне только чуть сцепляет в горле, тоска красоты с автоматической передачей: она ведь есть у кого-то, они ведь меня даже не ненавидят… они мне даже пожелали — чего?..