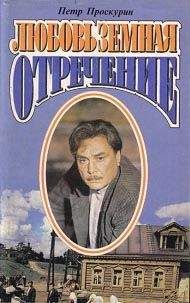— А я знаю, — заявил Денис. — Это оттого, что ты — дедушка. А собака эта твоя?
— Собака моя, — обрадовался лесник. — Диком зовут… Дик… а по-нашему, по-простому — Дикой…
— А почему она убежала? — нахмурил брови Денис. — Она испугалась?
— Она тебя испугалась, — сказал лесник улыбаясь. — У нее даже зубы оттого заболели.
— Зубы? — поразился Денис и добавил мечтательно, показывая палец: — У Дика вот такие большие зубы!
— Зубы у него большие, — согласился лесник. — Дик теперь смотрит на тебя.
Денис оживился, завертел головой; слова Захара обрадовали его.
— Сиди, сиди, — опять сказал лесник, наблюдая за подвижным лицом мальчика. — Дик подумает-подумает и придет, только ты его за шерсть-то не дергай. Он обидчивый, себя уважает, привык, чтобы его вот так не дергали за усы…
— А что, Дик обиделся? — помолчав, спросил Денис, раскрывая глаза шире. — Я же совсем не больно…
— Понимаешь, не то чтобы он так уж обиделся, — поспешил успокоить мальчика лесник. — Просто увидел он тебя в первый раз, не привык еще, не принюхался…
Показалась Феклуша, стремительно, подлетела к крыльцу все с тем же выражением изумления и счастья па лице и замерла возле Дениса. Захар взглянул в ее смятое радостью лицо; ничего, оказывается, не кончилось и все опять только начинается. Вот откуда-то из бездонной глубины детски непроницаемых безжалостных глаз на него глянуло что-то перехватившее дух: он на мгновение увидел собственное исчезновение, перед ним был вестник конца и его оправдание — нерассуждающее, спокойное. Вот чем его так поразило с первого же взгляда появление правнука, и помогла ему это понять сейчас Феклуша. Мысль была больная и не новая, нельзя было только дать разрастись ей в себе.
— Феклуша, хватит тебе выплясывать, — сказал он сдержанно, стараясь не обидеть ее и еще больше не разволновать. — У тебя там что-нибудь сварено?
— Есть, есть! — с готовностью закивала Феклуша все с теми же непривычно сияющими глазами и, по-молодому проворно взлетев на крыльцо, исчезла.
— Есть хочешь, Денис? — спросил лесник. — Пойдем…
— Я уже ел. — отказался мальчик, — я не хочу.
— Пойдем, молока выпьешь, — сказал — лесник, припоминая, что нужно делать и говорить в таких случаях. — Молоко свежее, хорошей травкой пахнет… Ты такого и не пробовал.
— Пробовал… Феклуша давала, — с готовностью сообщил Денис.
— Раз так, оставайся, — согласился лесник. — Только никуда далеко не уходи, лес кругом… я потом тебя проведу и все покажу…
— А волк есть? — спросил Денис, как-то боком, по-птичьи взглядывая на Захара.
— Есть, в лесу все есть, — вздохнул лесник, проскрипев досками на крыльце и скрылся за дверью. Феклуша уже махала ему, высунувшись наполовину из окна, звала к столу, на котором дымилась глубокая миска щей и стоял кувшин с молоком, глиняная кружка. Аленка, судя по Феклуше, старавшейся двигаться тише, расположилась в соседней, большой горнице, как ее называли на кордоне, и лесник успокаивающе кивнул Феклуше, показывая, что не будет шуметь, достал из настенного шкафчика хлеб, нарезал его. Это была его обязанность, Феклуша хлеб никогда не резала и даже отворачивалась, когда это делал Захар или кто-нибудь другой. Покосившись на двустворчатую дверь в горницу, лесник беззвучно положил нож и стал хлебать щи, невольно прислушиваясь к звукам, доносившимся в приоткрытое окно; перед глазами у него по-прежнему стояло упрямое породистое лицо правнука с крупными сильными бровями, с яркими серыми, совершенно дерюгинскими глазами. Привычный, размеренный бег времени нарушился, и лесник все больше хмурился. Ему не нравился обрушившийся как снег на голову внезапный приезд Аленки, то, что она вот так, не известясь, взяла и явилась, а ведь они уже не виделись лет пять, не меньше (подняв глаза к потемневшему от времени дощатому потолку, беззвучно шевеля губами, он посчитал); выходило, что не виделись они с дочерью даже больше, чуть ли не все шесть. Правда, письма от Аленки приходили регулярно, чаще, чем от сыновей. Захар отметив это как нечто существенное, словно впервые увидев, медленно обвел взглядом просторную, высокую комнату с окнами на обе стороны, с большой русской печью и с плитой, приткнутой вплотную к печи; бревенчатые, гладко выструганные стены, хорошо и ровно проконопаченные в пазах, всегда успокаивали его, придавали чувство уверенности. Он налил и выпил кружку густого, прохладного молока, принесенного Феклушей из подвала, и вышел на крыльцо. Феклуша как раз вынесла поесть Дику, и теперь Денис стоял рядом с ней, и оба с одинаково заинтересованным выражением на лицах смотрели, как Дик, выхватывая куски из большой плоской миски, казалось, не разжевывая, тут же их проглатывает. Солнце заливало кордон, куры нежились в пыли, распустив крылья, и надо было бы забраться куда-нибудь в тень, отойти от наполненного событиями дня, подумать, как поступить с порубщиками; почти сразу же обернувшись, лесник увидел в чем-то изменившееся и в то же время незабываемое родное лицо дочери и в первый момент стушевался; несмотря на часто получаемые от нее фотокарточки, он огорчился, что она тоже как-то подсохла, стала другой, в чем-то уже похожей на Ефросинью, свою мать. Аленка, со своей стороны, тоже, правда, больше от неожиданности, с некоторой даже растерянностью присматривалась к отцу: она ожидала увидеть глубокого старика, но Захар от лесной жизни, от постоянного движения и простой здоровой пищи выглядел значительно моложе своих лет. Перед Аленкой стоял, прищурившись, крепкий, высокий и сухощавый мужчина, с густой шапкой спутанных темно-русых, с сильной проседью, волос, с изрезанным морщинами лицом, и ему можно было дать и пятьдесят, и шестьдесят: от него веяло крепкостью и здоровьем.
— Здравствуй, отец, — чуть помедлив, как-то пристально, словно со стороны глянув ему прямо в светлевшие глаза, сказала Алена, торопливо шагнула и ткнулась головой в плечо. Он слегка обнял ее за плечи и, ничего не говоря, тут же отпустил. Она почувствовала его состояние и, опять глянув ему в глаза, слегка улыбнулась: — Сердишься?
— Долго ты собиралась, — отмахнулся он. — Я уже и ждать перестал, думал, может, на похороны только и выберешь время…
— Ладно, что ты! — как-то просто, по родному остановила она его. — Зачем? Я же писала, у меня тоже все клубком, не размотаешь… А у тебя тут хорошо-то как! — протянула она, жадно осматриваясь, запрокидывая голову к высокому, словно вымытому дождями небу. — Я и забыла, что небо бывает такое чистое… Как воздух!
Почувствовав па себе испытующий взгляд отца, Аленка как бы опала.
— Мне так нужно было поговорить с тобой, — сказала она. — Я совсем запуталась, я и к тебе потому приехала…
— Долго думаешь погостить? — осторожно и не совсем уверенно спросил Захар, пытаясь вспомнить что-то необходимое, нащупать верный тон в разговоре.
— Дня два… три, возможно, — помедлив, ответила она. — Я бы тут, кажется, совсем осталась, если бы от меня только зависело. От воздуха, что ли, голова разболелась… я даже, кажется, заснула, ты прости, отец…
— Ладно уж, — остановил ее Захар, понимающе улыбаясь и продолжая против своей воли отмечать новые и новые подробности в облике дочери; его всегда удивляло желание людей говорить о том, что и без слов было ясно.
— Хозяйство у тебя какое, — озадачилась Аленка, оглядываясь вокруг. — Ты писал, правда, из письма не все можно понять, надо увидеть. Скажи, отец, а тебе не трудно? Тебе ведь уже…
— Куда за семьдесят, — подсказал Захар, видя, что ей непросто вспомнить. — Хозяйство хозяйством, — тут же перевел он разговор на другое, — ничего нет трудного. Одному вроде сначала дико показалось, а там вон Феклуша прибилась… Ничего… лес, он тоже живей живого. От людей, от их пустозвонства — одна оскомина, заморился я от них, дочка. А тут чистота, небо да лес… Феклушу-то помнишь?
Она промолчала. Захар лишь заметил ее брезгливо поджавшуюся нижнюю губу и тоже как бы слегка отодвинулся; нужной, откровенной близости пока не получалось: что-то мешало им обоим. Аленка, пожалуй, впервые почувствовала неосознанную тревогу — все могло еще обернуться какой-нибудь новой неожиданностью. Она и раньше не знала, правильно ли поступает, бросаясь сюда, в глушь; нельзя ведь до конца рассчитывать на семидесятилетнего старика, пусть и отца, все равно ведь глубокий старик, не может он взять на себя такую нагрузку — стать окончательной решающей инстанцией в клубке ее запутавшихся отношений с миром. Человек с годами меняется, природу не переделаешь: отец отцом, а жизнь жизнью; каждый рассчитывается сам за свои ошибки, вольные и невольные. Пока ничего не надо говорить, что-нибудь придумается, решила она, к старому отцу можно и без всяких причин приехать, просто навестить, повидать. И отцу, пожалуй, не за что на нее обижаться: она всегда его помнила и после похорон матери сразу же пыталась увезти в Москву, переключить его внимание на внуков, но безуспешно — и не ее в том вина. Очень хорошо, что отец вновь обрел в своей жизни устойчивость, необходимое равновесие, она рада за него, хотя и этого не скажешь прямо, Бог знает что он может подумать…