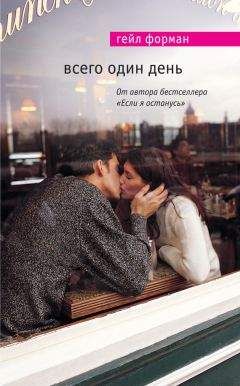— Почему?
— Не знаю. Они тяжелые. Рука потеет. Еще они громко тикают, словно стараются напомнить мне о том, что время уходит. Получается, из-за них я никогда не могу о нем забыть.
— А почему же тогда носишь?
Вопрос такой простой. Почему я ношу часы, которые меня бесят? Даже тут, за тысячи километров от дома, где никто не видит — почему? Потому что родители купили их из лучших побуждений. И потому что я не должна их разочаровывать.
Я снова чувствую мягкое прикосновение пальцев Уиллема к своему запястью. Застежка открывается, и часы соскакивают, оставляя на руке светлый след. Я чувствую, как свежий ветер щекочет родимое пятно.
Уиллем рассматривает часы, выгравированную на них надпись.
— И куда именно ты едешь?
— Ой. Ну, в Европу. Потом в колледж. Медицинский.
— Медицинский? — я слышу, что он удивлен.
Я киваю. Это было запланировано с самого восьмого класса, когда я спасла какого-то парнишку, который сидел за соседним столиком в ресторане и поперхнулся ягнятиной. Папе позвонили, и он вышел, и вдруг я вижу, что мальчишка посинел. Я встала и спокойно обхватила его руками в районе диафрагмы и принялась надавливать, пока у него изо рта не вылетел кусок мяса. Мама была под огромным впечатлением. Начала говорить о том, что я должна стать врачом, как папа. Через какое-то время я и сама стала так думать.
— Значит, ты сможешь обо мне позаботиться?
В голосе звучит уже привычная дразнящая нотка, я понимаю, что он шутит, но меня накрывает волна. Кто заботится о нем сейчас? Я смотрю на Уиллема, с которым все кажется таким простым, но я помню испытанное ранее ощущение, даже уверенность, что он одинок.
— А кто о тебе заботится сейчас?
Поначалу я даже не совсем уверена, действительно ли я сказала это вслух, а если да, то услышал ли он, потому что очень долгое время нет ответа. Но потом Уиллем наконец говорит.
— Я сам о себе забочусь.
— А когда не можешь? Когда болеешь?
— Я не болею.
— Все болеют. Когда ты куда-нибудь едешь, и вдруг заболеваешь гриппом или чем еще?
— Заболеваю. Потом выздоравливаю, — говорит он, отмахиваясь от вопроса.
Я приподнимаюсь на локте. У меня в груди словно разверзлась непонятная бездна чувств, становится трудно дышать, и слова дрожат, как листья, сорванные с дерева ветром.
— Мне вспоминается эта легенда о двойном счастье. Тот парень путешествовал один и заболел, но о нем позаботились. С тобой так же бывает, когда ты болеешь? Или ты лежишь один в каком-нибудь ужасном отеле? — Я пытаюсь вообразить себе Уиллема в горной деревеньке, а получается лишь в мрачном номере гостиницы. Я вспоминаю, как сама чувствую себя, когда заболеваю, — на меня нападает такая глубокая тоска и одиночество, хотя за мной ухаживает мама. А за ним? Кто-нибудь варит ему бульон? Рассказывает о зеленых деревьях, стоящих близко к небу под весенним дождем?
Уиллем не отвечает. Издалека слышится удар мяча о стену, кокетливый женский смех. Я вспоминаю Селин. Девчонок в поезде. Моделей в кафе. Клочок бумаги у него в кармане. Наверное, многие охотно поиграли бы с ним в медсестру. У меня в животе зарождается какое-то странное ощущение. Я повернула не туда, как когда едешь на лыжах и случайно выруливаешь на участок, где полно камней.
— Прости, — говорю я. — Наверное, во мне просто врач проснулся. Или еврейская мамочка.
Уиллем странно на меня смотрит. Я все забываю, что я в Европе, где евреев, наверное, нет, так что и шутка эта не имеет смысла.
— Я еврейка, и, вероятно, когда стану старше, непременно буду чрезмерно волноваться из-за здоровья окружающих, — поспешно объясняю я. — Таких женщин называют «еврейскими мамочками».
Уиллем снова ложится на спину и подносит к лицу мои часы.
— Странно, что тебе вспомнилась эта легенда о двойном счастье. Мне иногда действительно бывает плохо, и я блюю в общественных туалетах. Ничего красивого тут нет.
Я морщусь.
— Но был один случай, когда я ехал из Морокко в Алжир на автобусе и подхватил ужасную дизентерию. Все было так плохо, что мне пришлось выйти бог знает где, в каком-то городке на краю Сахары, его названия даже ни в одной книге нет. У меня началось обезвоживание, кажется, даже глюки. Я искал, где остановиться, и увидел отель с рестораном под названием «Саба». А я так звал своего дедушку. Я воспринял это как знак, мне показалось, что это означает: «Тебе туда». В ресторане никого не было. Я пошел прямиком в туалет и снова проблевался. Когда я вышел, увидел мужчину с короткой седой бородкой в длинной джеллабе. Я попросил чая с имбирем — мне его всегда мама давала от расстройства желудка. Покачав головой, он сказал, что раз я нахожусь в пустыне, то и лечиться должен местными средствами. Он удалился на кухню и принес оттуда запеченный лимон, разрезанный на две половины. Посыпав его солью, он велел мне выдавить сок себе в рот. Я думал, что мне опять станет плохо, но через двадцать минут живот прошел. После чего хозяин напоил меня каким-то ужасным отваром, по вкусу похожим на кору, и отправил в комнату наверх, где я проспал часов восемнадцать. Каждый день, когда я спускался, он спрашивал, как я себя чувствую, и, исходя из моих симптомов, готовил мне еду. А потом мы говорили точно так же, как в детстве я разговаривал с дедушкой. Я прожил там неделю, в этом городке, хотя даже не уверен, что он есть на карте. Так что во многом это похоже на твою легенду.
— Только вот у него дочери не было, — говорю я. — Иначе ты сейчас уже был бы женат.
Мы оба лежим на боку лицом друг к другу, так близко, что я ощущаю его тепло, так близко, что мы как будто дышим одним воздухом.
— Побудь его дочерью. Расскажи еще раз то стихотворение, — просит он.
— Зеленые деревья стоят под весенним дождем так близко к небу, а небо над ними так мрачно. Красные цветы покрывают землю от края до края так, как будто вся земля окрашивается в красный цвет после поцелуя.
Это последнее слово, «поцелуй», повисает в воздухе.
— Когда я в следующий раз заболею, сможешь мне его снова рассказать. И стать для меня той девушкой из деревни.
— Хорошо. Я стану ею и буду за тобой ухаживать.
Уиллем улыбается, словно очередной шутке, очередному витку флирта, и я улыбаюсь в ответ, хотя для меня это не шутка.
— А я взамен избавлю тебя от груза времени, — он надевает мои часы на свое тонкое запястье, на котором они уже не так похожи на тюремные кандалы. — Теперь времени не существует. Оно, как это там Жак сказал?.. Жидкое.
— Жидкое, — повторяю я как заклинание. Потому что если время действительно может стать жидким, тогда, возможно, всего один день сможет растянуться на бесконечность.
Я засыпаю. А когда просыпаюсь, все кажется другим. В парке стало тише. Звуки смеха и ударов мяча растворились в долгих сумерках. На темнеющем небе появились огромные тучи.
Но изменилось и что-то еще, что-то неизмеримое, но фундаментальное. Я чувствую это сразу же; молекулы с атомами образовали какую-то другую структуру, и весь мир теперь кажется безвозвратно другим.
И тут я замечаю руку Уиллема.
Он тоже уснул; его длинное тело лежит рядом со мной, изогнувшись вопросительным знаком. Но мы не касаемся друг друга, за исключением руки, которая лежит в изгибе моего бедра, будто случайно уроненный кем-то шарф, который сюда принесло нежным ветром сна. Но когда его рука легла на меня, оказалось, что ей там самое место. Как будто так было всегда.
Я, не шевелясь, прислушиваюсь к шелесту ветра в листве деревьев, мягкому и ритмичному дыханию Уиллема. Потом я сосредотачиваюсь на том месте, где лежит его рука, и мне кажется, что из его пальцев течет электричество, прямо в какую-то такую потаенную и важную часть меня, о существовании которой я доселе и не подозревала.
Уиллем пошевелился, не просыпаясь, и я подумала — ощущает ли он то же самое? Разве он может не чувствовать этого? Этот ток такой реальный, такой ощутимый, что все измерительные приборы бы зашкалило еще в метре от нас.
Он снова поворачивается, и кончики его пальцев касаются чувствительной кожи на бедре, посылая по моему телу жаркий разряд, такой восхитительно мощный, что я брыкаю ногой, пнув и его.
И клянусь, что я прямо чувствую, как взлетают его ресницы, его теплое дыхание согревает мою спину.
— Goeiemorgen[20], — произносит он еще мягким ото сна голосом.
Я поворачиваюсь лицом к нему, радуясь, что руку Уиллем так и не убирает. На его румяных щеках отпечатались следы травы, похожие на шрамы у индейцев после обряда инициации. Мне хочется потрогать их, эти полосочки на коже, которая в других местах у него гладкая. Я хотела бы трогать его везде. Его тело — как огромное солнце, обладающее собственной силой притяжения.
— Наверное, это означало «доброе утро», хотя формально еще вечер, — говорю я, как будто запыхавшись. Я забыла, как говорить и дышать одновременно.
— Ты что, не помнишь? Времени больше нет. Ты же отдала его мне.