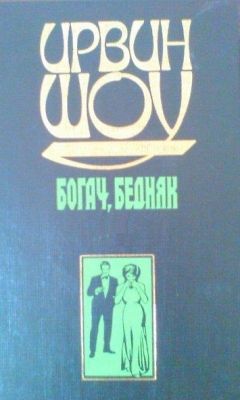Первой он поцеловал в щечку Иду, потом — Гретхен. Он сделал одну свою картину в Париже и там научился целовать всех подряд на съемочной площадке. Картина его была просто ужасной.
— Какой отвратительный день, — сказал он.
Он с размаху уселся на металлический монтажный стол. Он всегда и в любом месте чувствовал себя как дома.
— Сегодня утром начали снимать две мизансцены, как вдруг пошел дождь. Но это только к лучшему. Хейзен уже напился к полудню. (Ричард Хейзен — исполнитель главной роли. Он всегда надирался к полудню.) Ну, как дела? — осведомился он. — Все готовы? Можем смотреть?
— Почти, — сказала Гретхен. Как жаль, что она не заметила, что уже так поздно. Она бы привела в порядок волосы, освежила макияж ради Эванса.
— Ида, — сказала Гретхен, — возьми последнюю часть, а я попрошу Фредди прокрутить ее после текущего съемочного материала.
Они вместе спустились в холл, дошли до маленькой проекционной в конце коридора. Эванс незаметно ущипнул ее за руку.
— Гретхен, — сказал он, — прекрасная, неутомимая труженица.
Они сидели в темной проекционной, просматривая материал предыдущего съемочного дня, одну и ту же сцену, снятую с разных ракурсов, которая, как они все надеялись, гармонично войдет в фильм, который будет демонстрироваться на больших экранах в кинотеатрах по всей стране.
Глядя на экран, Гретхен думала о том, как проявляется причудливый, своеобразный талант Эванса на каждом дециметре снятой пленки. Она мысленно отмечала, где ей предстоит сделать первый монтажный кадр в отснятом материале. Ричард Хейзен был пьян и явно надрался вчера еще до полудня — это было прекрасно видно в кадрах. Если так будет продолжаться, то через пару лет никто ему не даст работу.
— Ну, что скажешь? — спросил Эванс, когда включили свет.
— Лучше снимать Хейзена по утрам, пока он еще не надрался, — сказала она.
— Видно, да? — спросил Эванс.
Он сидел, глубоко съехав вниз на стуле, положив ноги на спинку другого, стоявшего перед ним.
— А как ты думаешь? — спросила Гретхен.
— Ладно, придется поговорить с его агентом.
— Лучше поговори с его барменом, — посоветовала Гретхен.
— Выпивка, — вздохнул Эванс. — Проклятье Кинселлы, я имею в виду, когда пьют другие.
Проекционная вновь погрузилась в темноту, и они стали смотреть тот кусок, над которым Гретхен работала целый день. Сейчас, на большом экране, он казался ей гораздо хуже, чем тогда, в аппаратной. Но когда его прокрутили и снова включили свет, Эванс сказал:
— Отлично! Мне нравится.
Гретхен знала Эванса вот уже два года, она сделала с ним картину до этой и пришла к выводу, что режиссер ее слишком нетребователен к себе, ему всегда нравится то, что он делает. Где-то в подсознании, подспудно, он решил, что высокомерие только способствует лучшему выражению его «эго» и что для психического здоровья надо держаться независимо и не допускать, чтобы его критиковали, это чревато опасностью.
— Я не совсем уверена, — возразила Гретхен. — Мне хотелось бы еще повозиться с этим куском…
— Напрасная трата времени, — отозвался Эванс. — Я же говорю тебе — все хорошо!
Как и большинство режиссеров, он проявлял свое нетерпение в монтажной и всегда небрежно относился к деталям.
— Не знаю, — неуверенно сказала Гретхен. — По-моему, сильно растянуто.
— Именно это мне и нужно, — объяснил ей Эванс. — Я хочу, чтобы здесь все было именно растянуто. — Он возражал ей, как упрямый ребенок.
— Посмотри сам! Все эти люди входят в двери, выходят, — настаивала на своем Гретхен, — эти зловещие тени мелькают, мелькают, но в результате так ничего зловещего и не происходит…
— Не нужно делать из меня Колина Берка, — вспылил Эванс. Он вскочил на ноги. — Меня зовут Эванс Кинселла, напоминаю, если ты забыла, и оно, мое имя, таким останется впредь — Эванс Кинселла. Прошу тебя, всегда помни об этом.
— Прекрати ребячиться, — резко ответила Гретхен. Иногда две роли, которые она исполняла для Эванса-любовника и Эванса-режиссера, переплетались.
— Где мой плащ? Где я оставил этот проклятый плащ? — громко закричал он.
— Ты его оставил в монтажной.
Они возвращались в монтажную вместе. Эванс не помог ей нести коробки с только что просмотренным материалом, который она получила в киноаппаратной. Он раздраженно натягивал плащ. Ида готовила монтажный лист для фильма, который они снимали днем. Эванс подошел к двери, но вдруг остановился, вернулся к Гретхен.
— Я хотел пригласить тебя вместе пообедать, а потом — в кино, — сказал он. — Ну, как? — Он кротко ей улыбнулся. Мысль о том, что он кому-то может не понравиться даже на одно мгновение, была для него просто невыносима.
— Извини, не могу, — ответила Гретхен. — За мной должен заехать брат. На уик-энд я собираюсь к нему в Уитби.
Эванс сразу опечалился, ушел в себя. Его настроение менялось каждую секунду.
— На этот уик-энд, выходит, я свободен как птица. А я-то думал, что мы сможем… — Он посмотрел на Иду, давая понять, что она ему мешает, что она здесь лишняя. Но та, не обращая на него никакого внимания, продолжала увлеченно работать над монтажными листами.
— Я вернусь в воскресенье, как раз к ужину, — сказала Гретхен.
— О'кей. Посмотрю, что у меня выйдет. Передай привет своему брату. Поздравь его от моего имени.
— С чем это?
— Разве ты не видела его фотографию в журнале «Лук»? Он теперь знаменитость, его знает вся Америка. По меньшей мере, на одну неделю.
— Ах, это, — вспомнила Гретхен.
Журнал поместил статью под заголовком «Десять молодых, не достигших сорока, политиков, подающих большие надежды» и две фотографии Рудольфа, одна с Джин в гостиной их дома, а на второй он сидит за своим письменным столом в городской мэрии. В статье подробно рассказывалось о привлекательном молодом мэре с красивой, молодой и богатой женой, который стремительно идет вверх в республиканских кругах. Умеренный либерал, энергичный администратор, он не был еще одним оторванным от жизни политиком-теоретиком и никогда в своей жизни зря не получал жалованье. Реформировал городскую управу, способствовал развитию жилищного строительства, прижал промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду, посадил за решетку бывшего шефа полиции и трех полицейских за взятки, поднял вопрос о выпуске облигаций для создания новых школ, стал влиятельным попечителем университета Уитби, ввел в нем совместное обучение. Дальновидный реформатор, он провел успешный эксперимент с закрытием центра города для движения транспорта по воскресеньям и вечерами в будни, чтобы жители могли, не нервничая, спокойно прогуливаться по проезжей части улиц, делая покупки в центральных магазинах, превратил газету «Сентинел», владельцем которой стал, в пропагандистский центр, где регулярно публикуют острые, разоблачительные статьи о проблемах как местного, так и общенационального значения, и его газета не раз получала награды как лучший орган среди печатных изданий в городах с населением менее пятидесяти тысяч; произнес зажигательную речь на съезде мэров Америки в Атлантик-Сити, заслужившую восторженные аплодисменты; был принят в Белом доме вместе с группой лучших мэров страны.
— Когда читаешь эту статью, — сказала Гретхен, — складывается впечатление, что он сделал в Уитби все, что только возможно, кроме разве воскрешения мертвых. По-видимому, ее писала журналистка, безумно влюбленная в него. А мой братец умеет очаровывать, этого у него не отнимешь.
Эванс засмеялся:
— Как вижу, ты не позволяешь родственным узам влиять на твое беспристрастное мнение о родных и близких.
— Мне просто хочется надеяться, что мои родные и близкие не станут принимать всерьез всю чушь, которую о них пишут.
— Да, дорогая, твоя острая стрела попала в цель, — сказал Эванс. — Сейчас же пойду домой и сожгу там все альбомы с газетными вырезками о себе. — Он поцеловал на прощание прежде Иду, потом Гретхен и сказал ей:
— Заеду за тобой в отель в семь вечера в воскресенье.
— Буду ждать, — ответила она.
— Ухожу, чтобы в одиночестве провести сегодняшний вечер, — театрально сказал он, направляясь к двери и потуже затягивая на ходу пояс белого плаща вокруг тонкой талии — молодой «двойной» агент, играющий свою опасную роль в малобюджетном кино.
Гретхен отлично знала, каким «одиноким» будет его вечер и весь уик-энд. У него было еще две любовницы в Нью-Йорке. Она об этом прекрасно знала.
— Никогда толком не могу решить, кто он на самом деле — ничтожество или гений! — сказала Ида.
— Ни то ни другое, — ответила Гретхен, просматривая не понравившийся ей эпизод снова, чтобы понять, можно ли с ним что-нибудь сделать.
В шесть тридцать в монтажную вошел Рудольф, подающий надежды политик, в темно-синем плаще и бежевой хлопчатобумажной шляпе от дождя. Из соседней комнаты сюда долетал грохот мчащегося по рельсам поезда, а где-то в глубине холла оркестр в расширенном составе исполнял увертюру к симфонии П. И. Чайковского «1812 год». Гретхен перематывала свой кусок, и диалоги вдруг превратились в свистящую, громкую неразбериху.