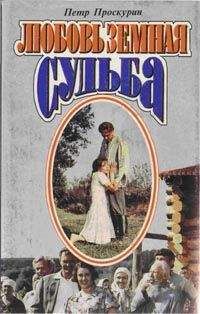— Митька, это же ты, паразит, — смогла наконец прошептать Анюта.
— Угадала, — хрипло отозвался Митька — Бегай не бегай, все одно моя будешь. Не могу я без тебя, что хочешь делай. Убить могу, мне теперь все одно, другому я тебя не отдам, так и знай. Довела ты меня до высшей точки, больше некуда.
В ответ на бессвязный и горячий Митькин шепоток, в жуткой и сладкой своей откровенности проникавший к самому сердцу, Анюта подняла обомлевшие руки, чтобы оттолкнуть его, но вместо этого руки сами собой обвились вокруг его литой шеи и потянули его голову к себе, и это новое потрясение едва не оборвало в самый неподходящий момент славную жизнь Митьки-партизана: Анюта почувствовала, как в мучительной судороге зашлось его тело, и сама, неловко отрывая голову от земли, стала целовать его.
— Ах ты паразит! — говорила она в полузабытьи. — Давно бы так... а то все издаля да издаля... думала, уж и подойти не насмелишься... мне вот такой-то черт и нужен... Да ты погоди, куда ж ты, — останавливала она, когда он хотел лечь рядом, — колючки кругом, ты же, паразит, голый весь, напорешься.
И опять в небе неровно плыла луна, и настороженно затаившиеся бурьяны подступали бездонными провалами, и опять тихий, заглушённый шепот.
— Ну, паразит, ну, паразит, — все изумлялась Анюта, покорная и тихая. — А свадьба как же, а, Мить?
— Завтра, и ни днем позже, уж я тебя, любушку, не оставлю без собственного глазу и на минуту...
На рассвете поднятая по тревоге рота минеров в соседнем селе Рогачи несколько раз прочесала бурьяны на усадьбе Густищинской МТС; подбирая кое-где потерянные в переполохе девичьи платки да туфли, солдаты сердито поругивались от бесполезной траты времени; правда, в самой сумеречности раздолий вымахавшего больше сажени репейника нашли несколько разложившихся трупов и тут же наскоро прикопали их. Молодой, недавно из училища, лейтенант с бодрыми песнями увел роту назад в Рогачи, доложил по начальству, что никаких бандитов не обнаружено и что, вероятно, местные девушки были перепуганы собственной разыгравшейся фантазией, но в Густищах и в селах вокруг уже точно знали, что произошло в эту августовскую ночь, и бабы, сходясь у полуразрушенных еще колодцев, с легкой завистью сообщали друг другу, что наконец-то Митька-партизан объездил ту самую Анюту Малкину, что еще и до войны воротила нос от парней, все сама на себя не могла налюбоваться. Народная молва была целиком на стороне Митьки-партизана, и даже бабка Авдотья, хотевшая отстегать Егора веником за участие в непотребном действе, услышав о Митьке, отступилась, лишь с неделю потом все ворчала на Егора, говорила, что он мал еще в такие дела встревать, на то каждому свой срок даден.
По воскресеньям Егор ходил в город и украдкой приторговывал подметками, брал с собой две-три пары и всякий раз возвращался с солью и спичками, приносил несколько стаканов пшена или крахмалу, а как-то принес Николаю почти новенькую телогрейку. С первого октября и Николай и Егор должны были пойти в школу, в третий класс; все мало-мальски способные мужики в селе работали на строительстве школьного здания в два классных помещения; решили построить обыкновенную избу на две половины через коридор; занятия должны были вестись в две смены, и в устройстве школы принимало участие все село. Бабы на болотах нажали тростнику на крышу, повязали в маленькие снопы и на себе перенесли к школе; несколько стариков, знавших плотничье дело, сработали парты, столы, классные доски; ими руководил демобилизованный из армии учитель без ноги, Петр Еремеевич, присланный директором Густищинской школы из района; хотя его покалечило несколько месяцев назад, он все еще не привык к протезу, и по ночам, во сне, стиснув зубы, часто мычал от боли в несуществующей ноге, у него болело в щиколотке, и пальцы сводило, особенно большой, и он часто от этой боли начинал во сне шевелить пальцами, которых не было вот уже полгода, и просыпался; пальцы продолжали болеть, и он невольно тянулся к ним и встречал пустоту; и это всякий раз его пугало.
Петр Еремеевич размечал со стариками плотниками, какой высоты должны быть парты, уговаривал женщин подружнее обмазывать стены, засыпать пол, знакомился со своими будущими учениками, добывал тетради и учебники, для чего ему пришлось несколько раз ездить не только в район, но и в область, но тетрадей он так и не достал и начал где попало собирать бумагу, на которой можно было писать, и ему удалось кое-что наскрести.
Учителя уважали в Густищах, с ним почтительно здоровались и стар и млад, бабы зазывали его позавтракать или поужинать чем бог послал.
В последнее воскресенье сентября Егор возвращался с базара ближе к вечеру; ему удалось на этот раз купить десять фунтов муки по заказу бабки Авдотьи, брусок тяжелого самодельного мыла, да еще у какого-то солдата за сто рублей немецкую зажигалку; это была излишняя, ненужная трата, но он не мог устоять перед блестящей безделицей в форме пистолета и теперь время от времени вынимал ее из кармана и любовался, поворачивая во все стороны.
Солнце низилось, на небо к вечеру начинало натягивать с запада тучи; несколько раз Егора обгоняли повозки, но все они были перегружены, и он даже не стал проситься подъехать, шел в стороне тропкой и думал, что его давно ждут, и эта мысль скрашивала дорогу. Поднявшись на холм перед самым селом, где до войны стоял ветряк, а теперь лежали лишь одни растрескавшиеся в огне жернова, он решил посидеть; ноги гудели, и он, положив мешок с покупками, лег на жернов и стал смотреть в небо, затем закрыл глаза фуражкой. Нагретый за день на солнце камень еще не остыл, и лежать на нем было приятно; Егор подумал, что бабка обрадуется муке и опять станет добиваться, откуда у него такие деньги; нужно было придумать что-нибудь заранее, а может, пора и рассказать все как есть, поахает и перестанет, дед Рыжий сам распорядился, а Варечка, что ж, подметки не ее, а немецкие, а раз немецкие, значит, и говорить нечего, не умирать же им теперь с голоду на своей земле. Вот стемнеет немного, и можно идти, думал Егор, лучше от чужих глаз подальше, меньше разговоров будет на селе, а то на днях Варечка что-то подозрительно долго торчала у них в землянке и все по сторонам шныряла глазами, пришла вроде лопаты лишней спросить, а сама все про нужду плакалась, сокрушалась, чем это бабка Авдотья двух таких ребят кормит: от государства только и дадено было по пуду пшеницы на трудоспособного да по десять килограммов на детей и стариков, а на этом долго не продержишься без молока и мяса.
Затем Егор вспомнил про ночную потеху с девками, посмеялся, представив, как они визжали и прыгали от его плети, вздохнул и сел, глядя на раскинувшееся перед ним село. Нужно бы начинать дрова запасать на зиму, подумал он, а то скоро дожди, пропадешь, с завтрашнего дня надо с Колькой на коляске хоть по разу в день за дровами ездить, возить понемногу сушняк; и там, где был в войну немецкий мост через речку, тоже можно много подобрать, когда мост взрывали, бревна, доски по всему берегу разлетались. В прошлый раз они притащили с Колькой пять добрых плах; правда, их на дрова жалко пускать, на избу пойдут.
Хотелось есть, и Егор решил идти домой, не ожидая захода солнца; кому какое дело, что он несет и откуда. Он вскинул мешочек на лямках за спину и зашагал вниз с холма; на улице ему встретилось всего два или три человека, и он, стараясь не смотреть в сторону усадьбы деда Рыжего, подошел к своей землянке, устало скинул с себя груз, Потер плечи и сел на чурбак; ни бабки Авдотьи, ни Кольки не было видно, и он решил покурить, достал из кармана остатки газеты, махорки, свернул цигарку и, наслаждаясь щелкнул зажигалкой. От первой же затяжки во рту стало горько и яблони перед глазами пошли верхушками чуть вскось; он шевельнулся и остался сидеть, чувствуя легкую неосознанную обиду на бабку и брата: пришел, и никого нет, никто не встретил, не порадовался его удаче. Он сидел спиной к улице и, услышав чьи-то шаги сзади, не повернул головы; кто-то не дошел до него и остановился, и он не выдержал.
— Ты, Колька? — спросил он, быстро оглядываясь, и в следующую секунду вскочил, выронив цигарку, сразу сильно бледнея и еще никак не в силах согнать с лица жалкую, изумленную улыбку; он хотел броситься вперед и не смог, ноги прилипли к земле; перед ним стояла мать, худая, высокая, с острыми костлявыми плечами, бессильно уронив жилистые длинные руки; у ног ее лежал какой-то узел.
— Мамка, — прошептал Егор недоверчиво и, срываясь на крик, рванулся вперед и припал к ней, пряча лицо у нее на груди; он чувствовал ее руки у себя на голове и, не стыдясь слез, поднял голову и увидел сквозь какой-то движущийся туман ее счастливые глаза.
— Егорушка, господи, Егорушка, — сказала Ефросинья пересохшим, хриплым голосом, — ты знаешь, я уж и добраться не думала, из последних сил шла сегодня, во рту ни крошки не случилось... ты помоги мне куда-нибудь сесть, — попросила она, не отпуская его головы и жадно вороша его волосы. — Господи, вырос-то как, вытянулся, и яблоньки-то целые... и плетень...