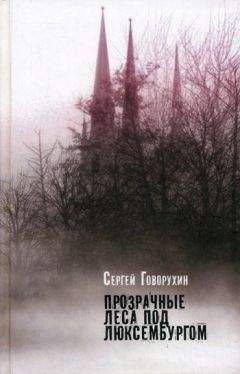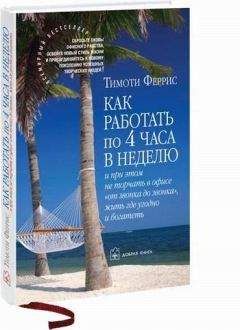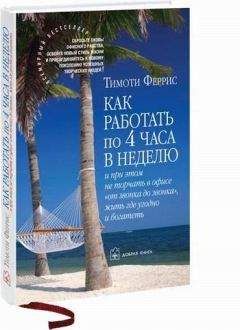Сегодня они тоже оперировали вдвоем.
– Посиди в кабинете, – сказал Женька, – почитай «Спорт-экспресс»…
Он перелистывал газету: «Акбарс» проиграл «Локомотиву», «Зенит» выиграл у «Торпедо»… 2:3, 5:4, 1:2…
Вероятно, за скупой газетной информацией должны были стоять образы пропотевших, матерившихся, расталкивающих друг друга плечами хоккеистов, но сейчас он не ощущал этого.
В сознании всплывали только цифры, как отсчет перед запуском. И мучительно долго тянулись секунды.
Самая простая из операций. Тридцать минут, и все дела. Пошел второй час…
Четыре, три, два, один… Еще немного, и все кончится. Еще несколько минут. Четыре, три, два, один…
В кабинет вошел Воробей.
– Всё, – сказал он, опуская руки. – Всё…
И заплакал.
– Перитонит, – сказал Женька, прислонившись к дверному косяку. – Если бы на два, хотя бы на час раньше…
Это было последнее, что он запомнил.
Ей было тридцать четыре. Ему сорок шесть.
А ушла она.
Ее хоронили через три дня на Хованском кладбище.
Целыми днями в квартире присутствовали люди, многие из которых были ему незнакомы. Женщины в черном занавешивали зеркала, варили рис, поминальный кисель…
Мужчины договаривались с похоронными агентами, заказывали автобусы, хлопотали место на кладбище…
Кто-то на эти дни забрал мальчика. Он даже не знал, кто…
Вечерами, пожимая на прощание его плечо и произнося привычно-успокоительные фразы, люди расходились, и он оставался один, привыкая к состоянию удушливого одиночества, на которое она обрекла его своим уходом.
Он выпивал полный стакан водки и не раздеваясь ложился на диван. Нужно было заснуть, но он так и не заснул ни в первую, ни во вторую ночь.
Он ждал, что она придет и объяснит, как ему жить дальше без нее. Но она не пришла.
В день похорон шел крупный мокрый снег, дорожки кладбища развезло, и, глядя на ее неестественное, но по-прежнему такое же родное лицо, он поймал себя на мысли, что чаще всего мы думаем не о том, что ушедшие от нас еще могли бы жить, купаться в холодной реке, ездить в метро с дешевым приключенческим романом в руках, любить и ненавидеть, а о том, как мы будем без них…
Сейчас он думал не о ней, о себе без нее.
И эта мысль была настолько страшна и невыносима, что для него теперь не имело никакого значения, кого сегодня погребут в сырую мартовскую землю, а кто останется на этой земле и проделает обратный путь до кладбищенских ворот, которые так необратимо разделяют мир на живых и мертвых…
Он взял няню для мальчика. По рекомендации агентства, за немыслимые деньги.
Няня была молода и словно скомбинирована из универсальных частей – плоть от плоти женщина, предназначенная для создания семейного очага. Такие женщины одинаково рационально тратят себя в постели, за обеденным столом и в сутолоке мясных рядов. Одинаково рационально расходуют запас нежности, расписанной на много лет вперед…
– Вам придется пожить здесь, – глядя мимо нее, говорил он, – ходить за мальчиком и вообще, по хозяйству… Временно, конечно…
Он возвращался за полночь, садился на кроватку мальчика, обнимал его крошечное тело и сидел часами.
– Пинку чеси, – сквозь сон просил мальчик.
Он гладил его маленькую спинку, хрупкие камешки позвоночника.
– Сыночек, – шептал он. – Как же мы будем жить, малыш?
Уходил он рано. Задолго до пробуждения мальчика. Он не мог представить, как сын проснется и спросит:
– А мама де?
И он не будет знать, что ответить.
«Мама де?» – сын всегда немножко «съедал» начало и окончание слов, ленился произносить четко. Раньше они ссорились из-за этого…
«Мама де?» – как он боялся этого вопроса.
Как-то ночью, моя посуду на кухне, няня сказала ему:
– Вам нужно вернуться – я не знаю, что ему говорить…
– А что скажу ему я?..
Она не ответила, вытирая руки кухонным полотенцем. Он смотрел на нее и думал: если бы он мог начать все с начала. Хотя бы вот с этой женщиной. С ее универсальной красотой…
Но он не мог, потому что на ее месте сейчас стояла другая и, вытирая слезы мокрой от мытья посуды ладонью, говорила:
– Я понимаю: все это, как в плохой мелодраме…
Так бывало во время их ссор: тяжких, бессмысленных.
Он срывался, кричал, что все это действительно как в мелодраме, что ему осточертело…
– Знаешь, – говорила она, – ты брось меня. Зачем я тебе – такая дура?..
Они не разговаривали днями. И каждый этот день он вспоминал сейчас и не находил себе оправдания.
– Я не могу, – тихо произнес он.
– Чего вы не можете? – повернулась к нему няня.
– Ничего.
Утром он пошел к редактору.
– Отправь меня на Кавказ, – попросил он.
– Смерти ищешь?
– Ищу, – ответил он просто.
– Дурак! А мальчик?..
– Я не знаю, – опустил голову он. – Я не знаю, что ему отвечать. Я боюсь его увидеть… У меня никого не осталось, кроме него, но самого меня тоже нет…
Редактор встал, подошел к окну, прислонился щекой к стеклу.
– Поезжай, – сказал он.
Месяц он мотался по пыльным дорогам Чечни. Но там, где он находился в данную минуту, было относительно спокойно, а колонны попадали в засады и рвались на фугасах в совершенно противоположных местах – и тогда он бросал все и мчался туда. Но когда он приезжал туда – устанавливалось затишье, а война вспыхивала там, откуда он только что уехал.
Он понял: война оставила его для сына, лишив права распоряжаться самим собой.
Иногда во время прогулок он, задумавшись, уходил вперед, а мальчик шел следом, везя за собой игрушечный самосвал на веревочке, в кузове которого хранилось его хозяйство: лопатка, грабли, формочки. Спохватываясь, он оборачивался назад и спрашивал:
– Сыночек, ты где?!
– С тобой, с тобой, – смешно отвечал мальчик.
С тобой. Он часто думал об этой фразе мальчика. Что случится раньше: его конец или отчуждение сына?
Он боялся только второго – оказаться ненужным, незащищенным его любовью. Боялся, что наступит день и сын скажет: «Знаешь, отец, тебя это, в принципе, не касается…»
Рано или поздно это случится – дети взрослеют и оставляют своих родителей. Но сейчас это казалось ему невозможным.
Он стал для него всем – их мальчик. Как когда-то был всем для нее.
Его материалы ругали на редакционных летучках за отсутствие актуальности и блеска пера, и тогда он попросил о переводе в отдел писем. Он верил, что еще вернется в литературу, когда станет нечем жить, кроме судеб придуманных героев, но собственная боль так глубоко сидела в нем, что он мог писать только о ней, если бы это было нужно кому-нибудь, кроме него самого.
Разбирая письма отчаявшихся людей, он находил их созвучными своему горю, понимая, что на свете случаются беды значительно непоправимее его беды. Но сознание тяжести чужого горя не приносило ему облегчения – он все больше убеждался, что мир сбалансирован из бед и счастья, которое почти неосязаемо на противоположной чаше весов.
Однажды, когда сын учился в первом классе, он привел домой женщину. Они столкнулись в дверях: женщина и его мальчик.
– Кто это? – прищурившись, спросил мальчик, когда за женщиной закрылась дверь.
– По поводу обмена, – глупо соврал он, убирая со стола следы встречи: остатки вишневого ликера, окурки легких дамских сигарет…
– Какого обмена?
– Как какого? – продолжал бессмысленно выпутываться он. – Ты же растешь… Квартира у нас маленькая – тебе нужна большая комната…
– Папочка! – мальчик бросился к нему, ткнулся лицом в колени. – Миленький, я прошу тебя: не надо никуда переезжать… – Он поднял к нему полные слез глаза. – Здесь жила мама…
Он становился взрослым – их сын.
В школьном дневнике стали появляться обращенные к отцу настойчивые требования учителей с просьбой зайти после уроков. Он не ходил – в школе на него по-прежнему смотрели сочувственно, – и только спрашивал:
– Ничего страшного?
– Да ничего, пап, – отмахивался сын и поворачивался к компьютеру.
Глядя на чужую, с острыми лопатками спину, он думал: «Неужели этот мальчик когда-то отвечал мне: “С тобой, с тобой…” И у меня перехватывало дыхание»…
Он выходил на балкон, курил, смотрел на огни проспекта. Всю жизнь его преследовали блоковские строчки: «Ночь, улица, фонарь, аптека…» Окна напротив…
Вероятно, и в них кто-то терял и обретал за эти годы. И возможно, та женщина на балконе третьего этажа с сигаретой в руке так же одинока и уже ничего не в состоянии изменить в себе самой…
А ночь остается. И улица, и фонарь, и аптека. И окна, и фотографии на стене, среди которых кого-то уже нет, а кто-то переместился в другие стены. Казалось, на время, а вышло – навсегда.
Сейчас он подумал о фонаре – о его спасительной неодушевленности…
Если бы и его также могли включать и выключать на рассвете.
Да, сын стал взрослым и постепенно забыл о матери. В этом нет ничего предосудительного – прошло больше десяти лет.