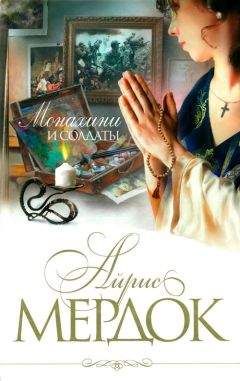Конечно, в той многолюдной женской общине существовали свои изъяны, недостатки, раздражители. Анна жила с ними, сознавала их, старалась, как ее учили, не замечать, надеясь на Бога. Избежать применения строгих мер было невозможно. Она не всегда соглашалась с настоятельницей. Была среди сестер одна, которую она любила больше остальных и не могла забыть или принести в жертву эту любовь. Были преобразования, перестройки, планы, которые общине приходилось обсуждать. Мнение Анны встречало отпор тех, кого она не могла не считать глупее себя. Она не слишком переживала по этому поводу, все обиды неся ежедневно Богу, и не из-за них так необъяснимо к ней вернулись сомнения. Она продолжала жить довольно спокойной жизнью, заполненной трудами и молитвами, слушая (петь она не умела), словно некое обещание неизменности всего, что окружало ее, красивые высокие голоса монахинь, звучавшие в унисон, столь чистые, столь знакомые, — песнь плененных птиц, слышная только Богу.
Разумеется, доказывать, что монастырки жертвовали интеллектом, было не так просто, как это делала Анна, с удивительной уверенностью опережая события. Но не голод по инакомыслию, по иной литературе, не бурный кризис интеллектуального сомнения рождали в ней тягу вернуться назад, в мир. Долгое время ее поддерживали богослужения — не как регулярная, расписанная по часам добровольная рутина, нет, они были ее жизнью. Она жила любовью к Христу, тайной той величайшей боли, с которой Он так же судил мир. Она жила, легко и естественно, догматом Троицы, плывя в духовном потоке, в котором сливались Отец, Сын и Параклет. Порой она задумывалась, насколько по-настоящему изменилась; чаще обращенный к ее Богу вопрос казался пустым. Она понимала, что в непрерывной мощи того духовного потока ее взгляды менялись, очертания ее космоса трансформировались, делая далекое близким, близкое далеким. Но результатом этих столь естественных перемен, их завершенности и легкости, прибавившихся наконец к ее боли, стало глубокое, твердое убеждение, все более ощущаемое ею как долг, что пришел срок уйти отсюда куда-то. Долг: понятие, которое она почему-то считала устаревшим вместе со своими давнишними узкими представлениями о морали воли и морали перемены. Она воображала, что перед ней лежит прямая и гладкая дорога к смерти, залитый светом путь, и любая перемена, поджидающая ее на этом пути, в руке Божьей. На этом пути к ограничению ее воли и усилению воли Его ей, может, придется пройти испытания, но больше не будет проблем, больше она не должна будет делать тяжелый, мучительный выбор. Но теперь все выглядело так, будто от нее требовалось отказаться от того, чего она «достигла», и начать сначала.
Она обсудила с настоятельницей и духовником причины, очевидные и, возможно, скрытые, которые подталкивали ее к уходу из монастыря. Ни настоятельница, ни духовник не были как-то особо или эмоционально близки ей. (Анну никогда не нужно было предупреждать об «опасности» исповеди.) Ее попросили отказаться от обязанностей преподавательницы. Ей стало противно исполнять роль наставницы любого рода, будь то духовная область или научная. Она уже чувствовала, что начинает лгать. Она спросила себя, и настоятельница спросила ее, нет ли какой-то глубоко затаенной причины ее странного желания бежать. В особенности настоятельница добивалась, чтобы она признала одно, с чем Анна не соглашалась. Это был не вполне кризис веры. Теперь она призналась настоятельнице, откровенней, чем прежде, сколь изменилось ее ощущение живого Бога, возможно, очень глубоко. Они молча посмотрели друг на друга. Настоятельница отвела глаза. Анна и настоятельница не были способны, в житейском смысле, «ужиться в одной берлоге». Настоятельница, которая была старше Анны, вступила в орден в конце двадцатых годов. В миру она была титулованной особой и богатой наследницей. Блестящая студентка, затем администратор, она потеряла желание стремиться к интеллектуальным высотам и полюбила успех. Теперь Анна с удовольствием пооткровенничала бы о множестве вещей с этой исключительно умной женщиной, но это было невозможно. Их разговор касался лишь того, как Анне следует поступить и почему именно так, и ни намека на обоюдное замешательство, которое могло бы смягчить суровость дознания.
Анна согласилась с тем, что ее ощущение, будто она находится «не в том месте», возможно, связано с изменением «ракурса» ее веры, но отказалась считать это, как поначалу заставляла ее настоятельница, обычным временным помрачением, secheresse,[47] которое нужно претерпеть и дождаться, пока оно не пройдет. Равно она отвергла и мнение, к которому настоятельница пришла позже (поскольку их беседы имели продолжение), что эта перемена в ней, в некоем высоком смысле, свершилась по воле Божьей. Да, на то, несомненно, была воля Божья, ответила Анна, но ей не было одобрительного «знака» свыше, не было откровения о новой задаче. Теперь она должна идти дальше под знаком отрицания и агностицизма. Что она намерена делать? — переспросила настоятельница. Анна не знала, да и зачем ей знать? Но была полна решимости уйти, причем уйти, получив разрешение и, если возможно, благословение, и настоятельница увидела, что ее не переубедить. Настоятельница, которая так часто препятствовала ей, на сей раз почти готова была уступить, и Анна наконец настояла на своем.
— И куда ты пойдешь, к кому?
— Буду жить одна, — ответила Анна.
Настоятельница, выражение спокойного лица которой Анна научилась понимать за время их бесед, проницательно взглянула на нее.
— Не будь слишком гордой и самоуверенной, думая, что сможешь оставаться непорочной, когда будешь там. Подумай, пока не поздно, что ты теряешь.
— Я не горда и не самоуверенна, — возразила Анна и подумала: «Но одно знаю: я смогу вынести любую боль, кроме боли раскаяния. Этого я во что бы то ни стало должна избежать, и, думаю, я знаю, как это сделать».
— Тебе понадобится помощь. Почему бы не поддерживать связь с нами? А то есть такие, кто, оказавшись в житейском море, не может никуда пристать.
— Может, и я не смогу, — согласилась Анна, — но, если даже так, предпочитаю остаться одинокой — и быть с Богом.
— Тогда, уходя отсюда, — сказала настоятельница, — ты уходишь окончательно и навсегда.
— Уж лучше так, — заключила Анна.
Кончилось тем, что она ушла как-то двусмысленно, тихо, с разрешения, но не услышав доброго слова на прощание. Едва оказавшись вне общины, в доме для гостей, она перестала для них существовать. Она увиделась только с тремя сестрами-экстернатками, которые выказали ей сдержанное сочувствие, как больной. «Вот я и в Лондоне, — думала она, прихлебывая чай и теребя стеганое покрывало, — и, до чего же странно, у меня теперь задача, которая на время задержит дальнейший выбор. Я должна была увидеть Гертруду, пока длится это ужасное испытание, и нет смысла заглядывать дальше. Бог благословил меня этой задачей. Удостоил пребыванием в ордене. Чтобы я поняла? Да, я здесь, а они там». Но слова уже повисали в воздухе, как тщетная мольба. Монастырь отрекся от нее, стал прозрачным и призрачным. В течение двух лет на ее счет в банке должны были поступать небольшие деньги. Но никаких известий из монастыря так и не было. Провалился в небытие.
Теперь она жила незаметно, тайной отшельницей. Эта идея, исподволь, возможно, с умыслом, подброшенная настоятельницей, понравилась ей, была как озарение. Она почувствовала, будто послана обратно в мир, чтобы что-то доказать. Или, может, она скорее была вроде соглядатая, одной из посланных Богом, соглядатаем несуществующего Бога. Что могло быть нелепей? Но это было то, что теперь она обязана была решить. Это «решить» не означает ли «задуматься», чего и Гертруда пожелала ей, говоря о «впустую потраченных годах»? Но разве они, те годы, были потрачены впустую, разве она убила их на то, чтобы выдумать ложное христианство и ложного Христа? Она так не считала. Настоятельница, которая подозревала, что Анна переживает тайный кризис веры, и, вероятно, предвидела, что скоро ей придется очень трудно (хотя кто знает, о чем думала настоятельница, может, она ей завидовала?), сказала: «Как ты сможешь жить без мессы?» Анна ей не признавалась, но на деле у нее не было в мыслях не ходить к мессе. Другое дело исповедь; пока ее уход оставался тайной, она могла позволить себе или причащаться, или не причащаться. (Как по-новому желанна была ей эта знакомая пища!) С этого времени она не пропускала мессы и не оставалась без Христа. Христос был частью ее, ее Христос, тот единственный, кто по-настоящему принадлежал ей.
Способен ли кто-нибудь, приняв однажды идею Бога, отвергнуть ее? Стремление к Богу, однажды всецело захватившее человека, наверное, неискоренимо. Она не могла предать забвению любовь Бога, которую испытала на себе, и чувство, что только через Бога может она постичь мир. Возможно ли найти радость где-либо еще, кроме этого истинного источника? И разве вещи более ничтожные не отравили ей душу? Она пропитана христианством и Христом, погружена в него, насыщена им, окрашена несмываемо. Цепочка нательного крестика была как шейные кандалы, как петля. Сможет ли она теперь жить с одним только онтологическим доказательством его существования? Способна ли любовь, в высшей своей точке, создать объект, к которому устремлена? Останутся ли еще поклонение и преклонение, возможно ли это? Молитва осталась с ней, постоянная, как дыхание, но чем она теперь была? До сих пор это было как странное ужасающее дыхание тела, в котором доктора поддерживают искру жизни, когда мозг уже умер. Восстанет ли это тело, чтобы снова жить? Она не видела в этом счастья. Счастье не было частью ее плана. Это понятие по меньшей мере было, как она надеялась, выжжено в ней пятнадцатью годами пребывания за монастырскими стенами. А радость, которая ушла из нее, может никогда не вернуться. Она знала, что, деля с Гертрудой ее испытание, странным образом получает отсрочку, а там придет, должен прийти, своего рода отдых. Затем неотвратимо последует иное страдание, которое лишь ждет своего часа. Темная ночь еще не наступила, но наступит, и будет она проливать слезы. «Я должна быть одна, — говорила она себе, — не строить планов, не заглядывать вперед, бесприютной и незаметной, скиталицей, никем. В противном я случае подтвержу правоту настоятельницы и попаду в западню мира».