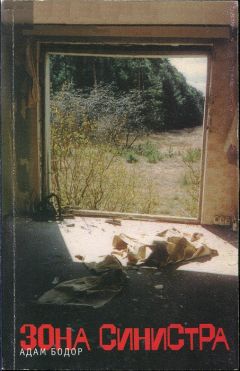Но все-таки ему тоже что-то казалось странным: сидя на краешке дрезины, он раз за разом звал Петрику Хамзу. Ответа не было. Тогда Олеинек, бросив сапоги на сиденье, побрел к забору. Походив взад-вперед, он наконец ухватил один кол и нервно подергал его.
— Вот те на!..
Когда он отпустил его, пальцы его разделились с легким, еле слышным звуком, словно смазанные жидким клейстером. Но это был не клейстер; это была свежая кровь.
Вернувшись к дрезине, он фыркнул сердито, сплюнул на землю, вытер руку о доски сиденья. Потом нашел бутылку и, уже без всяких предосторожностей, стал пить из горлышка, потом протянул бутылку мне.
— Лакайте скорей, — сказал он шепотом. — И — линяем отсюдова. Парень-то, видать, на кол сел.
— Что за дьявольщина? Как сел?
— А так. Нащупал в заднице дырку, нашел острый конец и — хлоп! — сел.
— Вы что, хотите, чтобы я вам поверил.
— Поверил, не поверил, а надо линять.
Док отмотал цепь дрезины от стояка, убрал тормоз, схватил рукоятку и сразу тронул дрезину с места. Петрика Хамза остался на верхушке забора, тень его загораживала звезды, а под ним, окруженные радужным ореолом, горели лиловые огни стрелок.
— Лучше всего, если я вас сейчас с собой увезу ненадолго, — сказал док. — Лучше нам пока оставаться вместе.
— Ладно, — ответил я. — Отвезите меня, скажем, до сторожки полковника Жана Томойоаги. Мы с ним друзья, знаете?
— Знаю, конечно. А по дороге допьем, что в бутылке осталось. Или вы еще что придумали? Нет других мыслей? Насчет того, что теперь делать?
— Мне сейчас ничего на ум не приходит.
— Мне тоже. Пока надо убраться отсюда как можно дальше.
— А скажите, док, между прочим: как их оттуда снимают?
— Никак, — ответил он сердито. — Что их снимать-то? Сами подумайте: коли ухватишь его снизу за ноги, только глубже насадишь.
— Просто в голову пришло…
— Не надо больше думать об этом. Это — его дело, и никто не имеет права вмешиваться. Так что пусть у вас голова не болит. А вообще-то с иным еще день или больше разговаривать можно.
За станцией рельсы пошли в гору. Нам с Олеинеком пришлось поднажать. Гул колес улетал далеко вперед; вдоль насыпи и на склонах горы волной катился собачий лай.
— Выходит, у вас теперь место освободилось, — сообразил я.
— Пожалуй, все два.
— Я бы пошел к вам в лес работать, — продолжал я гнуть свое. — Поговорю с подполковником-санитаром, может, сделает по блату прививку. Если вы не против, я бы с радостью к вам нанялся. Не скажу, что разбираюсь в медведях, но я научусь.
— Не могу обещать.
— А вдруг все-таки можно?
— Там видно будет. Думаю, сейчас я надолго один останусь.
Доктора Олеинека я проводил на ручной дрезине до границы природоохранной зоны, где рельсы перегораживал шлагбаум с висящим на нем красным фонарем. В караульной будке жил мой старый партнер по шахматам, полковник Жан Томойоага. Я с самого начала рассчитывал, что уж у него-то как-нибудь убью время; может, еще и выпьем немного. А потом я по насыпи незаметно вернусь в деревню.
Фонарь тут же был снят со шлагбаума и поставлен на порог. Полковник Жан Томойоага заменил в нем красное стекло на обычное, потом достал шахматы. Это были самодельные, вырезанные из дерева фигурки, а доской служила расстеленная на полу клетчатая рубаха. Все это можно было одним движением собрать и спрятать под топчан: горные стрелки, не любили, чтобы люди занимались посторонним делом.
Док Олеинек не спешил ехать дальше. Он сел на порог, рядом с фонарем, и подождал, пока мы расставим фигуры. Видно, его не слишком тянуло в резервацию.
— Я вижу, ты домой один возвращаешься, — сказал полковник Жан Томойоага. — Что, наш приятель дополнительный отпуск получил?
— Да. Отпустил я его.
Полковник Жан Томойоага вынул из-под топчана бутылку и поставил на пол так, чтобы каждый мог легко до нее дотянуться. В бутылке плескалась синевато-серая жидкость-денатурат, пропущенный через древесный уголь. Уголь, говорят, полезен для здоровья.
— А можно спросить, когда он вернется? Сам знаешь, я должен все передвижения заносить в журнал.
— Когда вернется, тогда вернется. Тогда и запишешь. А не вернется, ничего не запишешь.
— Шутник ты однако.
Мы играли с полковником Жаном Томойоагой вторую или третью партию, когда перед дверью, на фоне черного бархата затопившей долину ночи вспыхнули льняные волосы Петрики Хамзы. Не того, который посадил себя на кол, а второго. Влажный от росы, он стоял перед открытой дверью, и кровью от него не пахло ни капельки.
— Где он? — строго спросил он у Олеинека.
— Сам видишь, нет его тут.
— Я хочу немедленно поговорить с братом.
— Сейчас никак невозможно.
Сунув руки в карманы, Петрика Хамза обвел взглядом тесное помещение караулки.
— Э-ге-ге, док, я вижу, ты его сапоги принес. Тогда нечего и спрашивать, куда делись ноги, которые в эти сапоги были обуты. — Он ткнул пальцем в мою сторону. — Скажи-ка, не этот ли человек на наше место придет?
— Это все вилами на воде писано, — уклонился от ответа док Олеинек. — Но уж коли ты начинаешь соображать, что к чему, тогда слушай сюда. Я и тебе говорю: уходи. Ты свободен, ступай на все четыре стороны, да поскорее. Где-то, ты сам знаешь, где, тебя ждет твой брат, Петрика Хамза. Я и ему обещал: сразу искать вас не станут.
Петрика Хамза сел на землю и схватился за волосы. Но волосы были тонкие, редкие, и в руках как была, так и осталась пустота. Тогда он плюнул в ладони, растер слюну, встал, потянулся.
— Ладно, док. Пойду соберу пожитки. Но и ты обещай, что не сразу отправишься следом за мной.
— Коли ты так желаешь, пожалуйста. Сколько времени тебе надо? Двадцати минут хватит? Или полчаса?
— Полчаса — это как раз то, что нужно. Столько времени я хочу побыть один.
— О’кей, парень. Ты прав, собираться надо спокойно.
Петрика Хамза взял под мышку сапоги брата и, не прощаясь, пошел назад, в резервацию. По пути он громко выпускал газы; кому-нибудь могло показаться, это душа покидает его. Спустя минуту шум реки и бархатная чернота ночи захлопнулись за ним, словно плотный занавес.
Док Олеинек, хотя часов тут ни у кого не было, ждал терпеливо. Прошло уже, может быть, дважды по полчаса; наконец он потянулся и встал. Равнодушно кинув за плечо суму с бутылками, он зашагал к дрезине.
— Счастливо оставаться.
— Так я вас прошу, — крикнул я ему вслед, — имейте меня в виду.
— О’кей, там посмотрим.
Немного погодя я тоже вышел на насыпь и двинулся к Добрин-Сити. Есть люди, которых ходьба по шпалам успокаивает, других она раздражает, третьих — побуждает к задумчивости. Я, пока добрался до околицы Добрин-Сити, твердо решил, что не отправлюсь сразу на перевал Баба-Ротунда, а зайду на станцию: вдруг успею перекинуться парой слов с Петрикой Хамзой. О чем, я еще понятия не имел. Что-нибудь придет в голову… Но никакого разговора не вышло.
Бредя вдоль рельсов, я пришел на станцию с первыми лучами рассвета. Вдалеке, над лиловым гребнем Добринского хребта, небо начинало желтеть, и я с каждым новым шагом ждал, когда же на этом фоне возникнет, как пугало, тень Петрики Хамзы. Я дошел до угла склада пиломатериалов; альбиноса не было видно. Зато напротив, на краю грузовой платформы, сидели рядком, болтая ногами и вытягивая шеи, серые гусаки.
А там, где минувшим вечером курил сигарету Петрика Хамза, один из кольев в заборе был сломан посередине и верхней его половины не было и в помине. А землю под ним покрывал толстый слой ароматных опилок, и только пронизывающий рассветный ветерок нес откуда-то легкий металлический запах — чуть-чуть соленый, чуть-чуть сладкий, — точно как запах крови.
Светало; я подумал, что ложиться уже нет смысла, и решил сходить к подполковнику санитарной службы: вдруг в самом деле сделает мне по знакомству прививку. Ведь сейчас я вполне мог бы стать звероводом. Жаль пропускать такой редкий случай.
9. (Шерсть Конни Иллафельд)
В ту весну, когда я, служа помощником сторожа при покойниках, познакомился наконец с Конни Иллафельд, большой радости эта встреча мне не доставила. Она уже не знала по-настоящему ни одного языка, безбожно мешала их, и понять ее более или менее мог лишь тот, кто говорил в равной мере на украинском, немецком, румынском, венгерском, и совсем не мешало знать еще русинский и сепешский диалекты. В Добринском лесничестве таких людей было немного, и одним из этих немногих был мой приятель, старший зверовод природоохранной зоны, док Олеинек.
Конни Иллафельд — псевдоним; настоящее имя этой женщины, происходившей из семьи буковинских бояр Илларионов и живущей в бывшем поместье, среди простых крестьян, было — Корнелия Илларион. Пожалуй, можно без особого труда допустить, что кого-то зовут Корнелия Илларион, кого-то другого — Конни Иллафельд; но одновременно два эти имени могла носить только одна женщина.