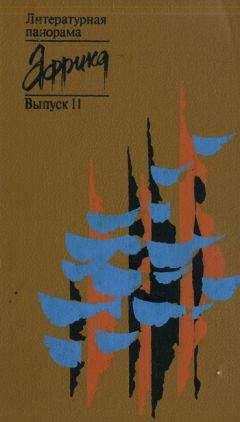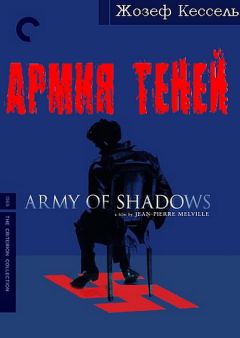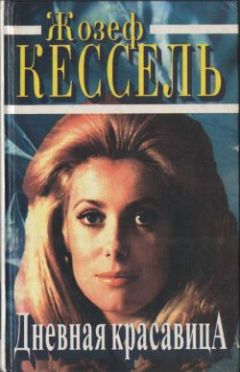Кто знает. Будь я просвещенным человеком, я бы ответил на эти вопросы. Но, как бы там ни было, я отпустил Омара и Айшу в касбу, сам же отправился на постоялый двор, чтобы найти там хозяина ослика.
— Надеюсь, он удовлетворил твое любопытство хорошей палкой, — проворчал Галеб-водонос.
— От твоих мозгов несет такой же затхлостью, как и от твоих бурдюков из козлиной шкуры, — ответил Башир. — Ведь если б я отыскал хозяина ослика, история не имела бы продолжения, и ты, о продавец воды, слушающий меня с широко раскрытым ртом, словно умираешь от жажды, — ты был бы крайне раздосадован.
И, оставив вконец озадаченного Галеба, Башир продолжил:
— Я обошел весь постоялый двор: гостиницу, конюшни, лавчонки; заглянул в каждый закоулок и расспросил всех моих тамошних знакомых — но хозяина ослика так и не нашел. Все в один голос говорили, что осла просто бросили здесь издыхать. Тогда я решил отвести его к доктору Эвансу.
Вы знаете, что от улицы Статута до лечебницы путь недолог. Так вот, друзья мои, мне он показался длиннее, чем до тех подземелий на мысе Спартель, которые иностранцы называют гротами Геркулеса. Ослик был слишком слаб, чтобы двигаться самому, и мне приходилось всю дорогу его поддерживать — то рукой, то плечом, — а то и взваливать на спину. Кровь и гной из его ран смешивались с моим потом. При встрече с нами одни прохожие дивились, другие смеялись, а ватаги уличных мальчишек, видя, что я совершенно изнемог, кидали в нас камнями. Но я не бросил ослика: я знал, что если он упадет, то больше уже не поднимется.
Наконец мы добрались до лечебницы.
Войдя во двор, я прислонил ослика к стене и позвал доктора Эванса. Была уже ночь, но он все еще находился в лечебнице, несмотря на то что утром всегда приходит раньше других. В тот момент он в последний раз обходил больных животных. Услышав мой голос, он подошел. В руках у него был большой фонарь, который обычно держат для него санитары-арабы, но к этому времени все санитары уже разошлись по домам. Тщательно осмотрев ослика, он сказал:
«Помоги мне отвести его в дальний хлев».
Я сразу все понял: в том хлеву доктор Эванс усыплял крупных животных.
«Значит, его надо умертвить?» — все-таки спросил я.
«Это лучшее, что можно для него сделать», — ответил доктор Эванс.
Я посмотрел ему в глаза: они были грустные и спокойные. Я так болел душой за ослика — всего израненного и такого опухшего, будто у него было два горба, — что не удержался и спросил еще:
«Неужто ничего нельзя сделать, чтоб он остался жив? Ничего?»
Доктор Эванс молчал. Осветив мне лицо фонарем, он долго и пристально смотрел на меня, а потом медленно произнес:
«Если кто-то и может попытаться, так это ты, Башир».
«Я? — невольно вырвалось у меня. — Я, калека, невежда?»
«Дружеская привязанность порой гораздо важней, чем знания», — ответил доктор Эванс.
Я не совсем понял, куда он клонит, да у меня и времени не было поразмыслить над его словами: он вдруг заговорил совершенно иным тоном, прямо как школьный учитель.
«Видишь, — начал он, — это животное заставляли страдать больше, чем оно может вынести, и оно лишилось последних сил. Посмотри внимательно на холку, брюхо, колени, сухожилия — всюду живые раны. Это оттого, что на него надевали плохое седло, навьючивали слишком тяжелую поклажу или глубоко прокалывали и, понукая, рвали шкуру железным острием. Но ужасней всего то, как его лечили: какой-то варвар прижигал ему раны каленым железом».
Тут Галеб-водонос, чуть привстав, закричал во всю свою глотку, привыкшую зазывать клиентов:
— Почему варвар? Наши отцы и отцы наших отцов делали точно так же.
— Верно, верно, — заговорил крестьянин Фуад. — В деревне каждый ребенок знает, что у животных все недуги лечат огнем.
Башир, который обычно отделывался насмешкой или любезностью, на сей раз вышел из себя и в запальчивости сказал:
— Отцы ваших отцов, говорите? Деревенские дети? Да разве они столько учились, прочли столько книг, имели такой опыт, как доктор Эванс? Разве они умели творить чудеса, как он, целитель больных животных? Огонь лечит все, говорите вы! А вы видели белого ослика? Он умирал потому, что его лечили каленым железом, ведь у него на теле не было живого места! Хотите верьте, хотите нет, но это так!
Тут в разговор вступил Кемаль, заклинатель змей, который, хоть и сидел в первом ряду, до сих пор не проронил ни слова — он и вообще-то редко пользовался человеческой речью.
— Напрасно ты горячишься, славный рассказчик, — сказал он. — Я имею дело с животными, у которых самая тонкая кожа, и я подтверждаю, что ты совершенно прав.
Эти слова вернули Баширу душевное равновесие, и он продолжил с необычайной учтивостью:
— Если я говорил слишком резко, о друзья мои, знайте, что я лишь передавал то, что слышал от доктора Эванса. И еще он мне сказал:
«Да, Башир, этому ослику причинили много зла, и, по всему видно, часы его сочтены. Но в нем — и это очень важно, Башир, — в нем еще теплится желание жить. Я сужу по тому, как он из последних сил старается не лечь на землю. Он чувствует, что стоит ему прилечь хотя бы на минуту — и для него все будет кончено. И он, превозмогая себя, держится на ногах. Но ты, Башир, можешь ему помочь. Я дам тебе лекарства и скажу, как их применять, но самое лучшее средство у тебя уже есть — это твои добрые чувства. Видишь: смерть уже подошла к нему совсем близко. Знания и опыт подсказывают мне, что она неизбежна. И все же, он и ты — вы вместе, если очень захотите, можете попытаться доказать, что я не прав».
Сказав это, доктор Эванс вывел из конюшни двух уже почти выздоровевших мулов, и мы отвели туда ослика, поддерживая его с обеих сторон. В конюшне к потолку был прикреплен толстый брус, на котором висела незатянутая подпруга. Я продел ремень под животом ослика и приладил его так, чтобы он не касался израненного хребта. Теперь ослик мог стоять, не прилагая усилий, будучи как бы подвешенным. Вы, конечно, понимаете, что все это я делал под руководством доктора Эванса.
Потом я отправился с ним в помещение, где хранятся лекарства, и мы в два приема перенесли в конюшню все необходимое. О друзья мои, если б вы видели все эти бутылки, коробки, горшочки, колбы, склянки, тюбики, шприцы, эти порошки, пасты, пилюли и настойки! Одни лекарства пахли рыбой, другие — тухлыми яйцами, третьи — сушеными травами, и было еще множество лекарств вообще без запаха. Их я распознавал по цвету или по форме пузырьков и коробок, в которых они находились. Объяснив мне назначение каждого лекарства и способ применения, доктор Эванс оставил меня один на один с осликом.
Тут-то и началась у меня настоящая работа. Я то смачивал ватные тампоны в целебных отварах и делал примочки, то пинцетом осторожно снимал засохшие корки, то прочищал ослику ноздри пастой, то накладывал на содранную спину мази, то давал ему проглотить пилюли, придающие силы и способствующие образованию новой крови, то делал уколы против нагноения ран… И еще у меня была уйма других дел — теперь уж и не припомню каких.
— Тем лучше, что ты о них забыл! — визгливым голосом закричала беззубая старуха Фатима. Она подняла обе руки, — с годами они стали похожи на лапы хищной птицы, — и, хлопнув себя по тощей обвисшей груди, запричитала: — Вот этой грудью я кормила детей, которые умерли совсем малютками, и никто даже не пытался их лечить! И детей тех, кто выжил, постигла та же участь, а теперь такая же участь ждет моих правнуков.
— Ив наших семьях то же самое! Все то же самое! — раздались голоса в толпе.
И Башир негромко, спокойно ответил:
— Знаю, бабуля, все знаю, друзья мои. Мне, конечно, еще мало лет, но сколько я себя помню, я всегда жил без крова, без родителей, среди таких же, как я, беспризорных детей. А как много я видел их — трясущихся в лихорадке, страдающих от смертельного недуга, одиноких, голодных, лежащих в уличной пыли и грязи, облепленных мухами, со вздутыми, как бурдюки, животами. И никому не было до них дела, кроме тех людей, которые должны были убрать с дороги их маленькие безжизненные тельца. Я сам, когда был болен, оказался, словно околевающий бездомный пес, совершенно без помощи, и жив остался лишь по воле Аллаха. Да, друзья мои, уж я-то знаю, может быть, даже лучше, чем вы, какова участь детей бедняков.
Здесь Башир на время умолк и обвел своими добрыми карими глазами, насквозь пронизанными лучами полуденного солнца, лица слушателей. Потом он спросил еще более тихим ласковым голосом:
— Но чем, скажите, виноват ослик, умирающий оттого, что его истязали каленым железом?
Говоря это, Башир остановил взгляд на человеке самом бесчувственном, самом черством из всех, что сидели вокруг него. И старый ростовщик Наххас, о котором говорили, что он лишь тогда справедлив, когда взвешивает свои монеты и драгоценные камни, процедил сквозь зубы, качая головой: