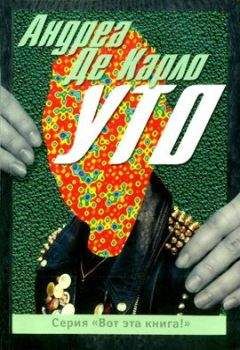Он снова замолчал в ожидании моей реакции, но вдруг до него наконец дошло, что я не хочу быть участником и, сколько бы он ни старался, не заведусь. Как машина в морозное январское утро.
– Ты замерз? – спросил он. – Если хочешь, давай вернемся в дом.
На улице благодаря темным очкам предметы обрели мягкость, кровь от ходьбы разогрелась лучше, чем от кипящей во мне злости. Мы шли, огибая дом, снег продолжал падать, и когда я понял, что, слава Богу, вырвался из западни его разговоров, мне стало почти тепло.
Вот от чего я больше не страдаю, так это от холода, сказал он. – Я его не замечаю. Гуру, тот вообще никогда не мерзнет. Ты бы видел, как он одет! Тонкая шерстяная туника, и все. Это в его-то возрасте! Он говорит, что холод и жара – понятия чисто ментальные, можно приучить себя не обращать на них внимания.
– Я не могу не обращать, – сказал я тихим и срывающимся после долгого молчания голосом. Конечно, такое признание могло испортить весь эффект от моей недавней прогулки босиком, но сейчас меня это мало беспокоило.
Значит, Витторио еще не наговорился? А я-то надеялся, что он хоть на улице замолчит.
– Я приехал сюда, – продолжал он, – познакомился с гуру, с людьми, которые тут живут, и все изменилось. Здесь я снова нашел смысл. Это потрясающее ощущение, все равно что заново родиться, верно? Я смотрел вокруг и понимал, что все это и раньше существовало, вот только я ничего не замечал.
Хорошо бы он еще заметил, как мне осточертели его разговоры. Мокрый снег залепил стекла очков, и я совсем перестал видеть, но, превратившись в слепца, упрямо продолжал идти вперед. Витторио давил снег толстыми подошвами и сотрясал разговорами воздух.
– Ехать куда-то или сидеть на одном месте – есть разница, верно? – говорил он. – Есть разница между игрушечным электрическим поездом, который ездит по кругу в комнате, и поездом настоящим, который привозит тебя в новое место?
– И что же это за место? – презрительно спросил я, уже не в силах больше выносить его тон, жестикуляцию, врожденную бесчувственность, превратившуюся здесь, как по мановению волшебной палочки, в глубокую чувствительность.
– Это место… – он угрожающе поднял руку, – называется «духовность, поиски, нежданная радость».
Я шел за ним, и у меня болели от холода уши, болели руки в карманах окоченевшей, как труп, кожаной куртки. Я готов был обвинить его во всем: в холоде, в своей судьбе изгнанника, чужака, в своем одиночестве. Сколько всего интересного сейчас происходит в мире, а я тут должен выслушивать историю о том, как у него все удачно сложилось и как он теперь в жизни счастлив.
– Выходит, тут настоящий рай? – спросил я.
Витторио метнул в меня враждебный взгляд. Этот бесконтрольный порыв, безотчетный импульс совсем не сочетался с его добродушным видом, и я представил себе злобного сторожевого пса в дверях кондитерской. Казалось, он бросит сейчас что-то резкое, возможно, ударит меня, повалит в снег. Я напрягся, готовый защищаться, но он почти тут же улыбнулся и сказал:
– Нет. Просто это очень спокойное место, где люди стараются стать лучше. Оторваться от быта, от материальных проблем. Учатся думать. Раскрываются. Узнают, что такое истинные ценности. Тебе все это станет понятно, когда ты познакомишься с гуру.
Я больше рта не раскрыл и, ненавидя его все сильнее, шел молча до самых дверей дома.
Марианна ищет собеседника
С Марианной легче, чем с Витторио, хотя Марианнина легкость не природная, за ней скрывается упрямое упорство. Иногда мне даже страшно становится от ее светлого взгляда, ласковой манеры говорить, не сходящей с лица улыбки.
Она тоже вытаскивает меня на улицу, ведет к юго-западной стене дома, в маленькую ухоженную теплицу.
– У нас здесь салат, шпинат, – говорит она, – зелень всякая. Весной едим свою клубнику и спаржу. Гуру очень нравятся наши овощи, он говорит, они вкуснее, чем у остальных членов общины, хотя тут все выращивают их по нашему методу, без химических удобрений. Гуру говорит, у наших овощей особый, средиземноморский аромат, и они нежнее.
Не отвечаю, но и не смотрю в одну точку, как с Витторио, не стою истуканом, стараясь поглубже упрятать свои чувства. Мне вообще всегда легче общаться с женщинами, чем с мужчинами, так уж сложилось. Не знаю, в чем тут дело – то ли в игре обольщения, то ли еще в чем, во всяком случае, с ними мне удается хоть иногда уклониться от объяснений и лобовых вопросов, занять наименее уязвимую позицию.
Кроме того, Марианна – довольно красивая женщина, и хоть она и старше меня лет на двадцать, мне кажется, я различаю призывные искры в ее светящемся духовной чистотой взгляде.
Эти вспышки пробиваются наружу контрабандно на какую-то долю секунды, когда она поворачивается ко мне, что-то показывает или быстро посматривает на меня с острым любопытством, от которого мне становится жарко. Но, вообще-то, она обращается со мной деликатно, не забывая, что я бедный сирота, очень ранимый мальчик, старается, чтобы я чувствовал себя у них как дома, окружает заботой и семейным теплом. Она никогда не говорит о том, что случилось в Милане с мужем моей матери, но всегда это подразумевает, когда мы с ней разговариваем, – я чувствую это по подчеркнутой мягкости ее интонаций.
– Красота, верно? – говорит она и показывает на растения в теплице, на снег за окном, на дом, на лес, на воздух и зиму. – Они с Витторио так притерлись друг к другу, что говорят об одном и том же и одними и теми же словами, их друг от друга не отличишь. – Казалось бы, так просто, – говорит она. – А ведь многим людям не дано все это видеть. Они распыляют свою энергию во все стороны, у них нет времени оглядеться вокруг. – Чудесно, – добавляет она с улыбкой, – что ты понимаешь, о чем я говорю.
Поправляю очки на переносице и стараюсь представить себе, какими они оба, Витторио и Марианна, были до приезда сюда: он – далеким от всего этого, хотя и немного заинтригованным, она – твердой, несмотря на кажущуюся хрупкость, уже с просветленностью во взгляде. Стараюсь представить себе их споры: рациональные доводы сопротивляющегося изо всех сил медведя Витторио, беспомощность, возможно, слезы Марианны, бурные сцены с Джузеппе, который еще не знает, что ему предстоит превратиться в Джефа-Джузеппе, а может, уже предчувствует это. Вспоминаю звуки сдвоенного дыхания, которые я слышал несколько дней назад в полседьмого утра из спальни, и пытаюсь разгадать, что притягивает их друг к другу: неужели только очищенные, выправленные и выпрямленные чувства, приобретенные уже здесь, в Мирбурге?
Стою рядом с ней у кухонной стойки, на которой она готовит тесто для печенья: смешивает пшеничную муку с кокосовой, добавляет миндальную пасту и мед. Нина, как всегда, в своей комнате, Джеф-Джузеппе ушел помогать Витторио, дом погружен в безмолвие, как межпланетный корабль в космическое пространство.
– Теперь мы все так счастливы, – говорит Марианна, и эта фраза могла бы составить безупречное гармоническое сочетание с золотистой тональностью светлого дерева гостиной, с воцарившимся в доме покоем, если бы не ее чуть дрогнувший взгляд. – Но чего это стоило! Мне пришлось побороться за то, чтобы приехать сюда.
– Витторио мне рассказывал, – говорю я, не отрывая взгляда от ее рук, которые укладывают тесто в алюминиевые формочки в виде звезд, полумесяцев, дельфинов.
– Рассказывал? – спрашивает она без тени удивления, словно их с мужем версии обязательно должны совпадать. – Мы были готовы расстаться навсегда. Практически уже расстались. Витторио говорил, что не может отказаться от привычной жизни, я же поняла, что больше так жить не могу. Мне хотелось убежать от шума, машин, снобизма, ревности, зависти, от соревнования за социальные блага и тому подобных вещей. Джеф уже стал тянуться к дурному, целыми днями сидел перед телевизором, забивая уши всякой чепухой. Его занимали только марки джинсов, марки ботинок, он готов был питаться всей этой рекламируемой отравой, книг в руки не брал, жил, не думая, не чувствуя, без цели, без интересов.
– О Мадонна! – сказал я, глядя на ее прямой нос, на светлую нежную кожу у виска, под которой пульсировала маленькая голубоватая жилка. Эта ясность ее взгляда, упорная и решительная, накладывала отпечаток стерильности на весь ее облик, делала ее далекой, чужой.
– Да, – сказала она, – поэтому я решила уехать и увезти Джефа, уехать во что бы то ни стало, даже если никогда больше не увижу Витторио. Для меня это был вопрос жизни и смерти.
– А Витторио? – спросил я, глядя, как двигаются ее руки, обтянутые мягкой шерстью свитера. Движения были такие умелые, профессиональные, будто она принадлежала к роду потомственных месителей теста для печенья и хранителей больших деревянных домов. И все-таки мне почудилось, что я разглядел краешек сомнения, тонкую трещинку, готовую вот-вот разойтись и придать этим движениям трагический характер.