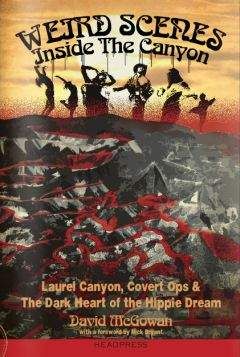Векслер кивал, соглашаясь, хоть потом всегда оказывалось, что он не согласен — ни с кем и никогда.
— Заметьте, Наум, все великие художники жили примерно в одно время, потом великих не стало лет на пятьсот, потом снова появилось сразу много, и снова все исчезли. Все великие писатели тоже жили в одно время, где-то от Гете до Чехова, и это было другое время. Так же с математиками, физиками и философами. У каждого времени свои гении. Но они всегда есть. Вы правы — они не нужны сегодня в науке. Значит, они в другом месте.
— Где?
— Не знаю. Может быть, в торговле или рекламе. Может быть — в чужих постелях. Я бы не удивился.
— Зачем же так… э-э… круто. Они там, где решается важнейший вопрос человечества. Науке сегодня до этого вопроса нет дела.
Векслер усмехнулся:
— «Важнейший вопрос человечества»! Где вы только набираетесь таких выражений, в которых при всем желании не отыщешь хоть каплю смысла.
Снова зазвонил телефон.
— С вами говорит Вадим Краснопольский, редактор сборника памяти Григория Соломоновича Векслера. Мы очень рассчитываем на вашу помощь в составлении биографии. Нам известно, что мать его похоронена в Нетании, но неизвестна дата ее смерти. Может быть, сохранились ее письма, какие-нибудь документы? Отец Григория Соломоновича был репрессирован, но нет сведений, как все это отразилось на…
— Берия все знал, — сказал я, — но Векслер был ему нужен.
— Это очень интересный момент. Григорий Соломонович, несомненно, ненавидел коммунистический режим, но ради науки шел на компромисс.
Я сказал:
— Он был коммунистом.
— Да, но потом он, как академик Сахаров…
— Он всегда был коммунистом, — повторил я, как будто это имело какое-то значение.
Однажды мы с Векслером поссорились из-за этого. Ира тогда нашла работу по специальности — читать лекции на курсах переподготовки. Обложилась книгами, сидела ночами, зубрила ивритские термины. В конторе на улице Рав Кук выделили учебный класс, он едва вмещал человек сорок студентов, к Ире словно молодость вернулась — приходила домой воодушевленная, садилась за свои справочники, не пожалела четыреста шекелей и купила книгу — какой-то малый уже опередил ее, издал пособие для таких курсов переподготовки, вполне добротную компиляцию из разных других пособий. Там на каждой станице были орфографические ошибки, зато вверху над чертой: «Международный центр…» и имя этого малого, а в тексте его фотографии со студентами курсов — он открыл их в разных городах.
Ира смеялась над малограмотной туфтой «международного центра», а смеяться-то как раз не следовало, дело оказалось нешуточным: открыв курсы в Нетании, городское управление встало на пути человека, который с этими курсами по всей стране разворачивался. Ира получила вызов в суд: малый требовал возмещения убытков за то, что на лекциях она пользовалась его пособием. Это тоже казалось нам смешным: человек даже не понимал, что такое авторское право и интеллектуальная собственность. Дальше начался вообще какой-то бред, на лекции стали врываться люди, мчались по рядам и вручали каждому студенту конверт, в котором предлагалось уйти с якобы незаконных городских безграмотных курсов и пойти на курсы этого типа, в газете появились фальшивые объявления о закрытии городских курсов, какие-то темные личности записывали лекции на скрытые магнитофоны — Ира чувствовала себя героем пародии на гангстерский роман. Нам казалось, шустрого малого привлекут к ответственности за фальшивки в газетах и хулиганство на лекциях, суд разъяснит ему, что интеллектуальной собственностью он не обладает и права его не нарушены, но Векслер расценил все иначе:
— Не думаю, чтобы такой прохвост не знал, что делает, — сказал он. — Вызов в суд составлял профессиональный израильский адвокат. Значит, эти люди знают то, чего мы с вами не знаем. Ну, например, знают какие-нибудь махинации городского управления и собираются его шантажировать. Скорее всего, до суда дело не дойдет, стороны сговорятся, как всегда в Израиле. Городское управление просто закроет курсы, а прохвосту только этого и надо.
Так все и оказалось. Ира, как обычно, пришла на занятия, перед закрытой дверью толпились студенты, кто-то уже знал, что курсы закрыли, Ира позвонила домой человеку, который их организовал и еще утром грозился упечь «бандита» в тюрьму, тот сказал:
— Я ничего не могу сделать. Меня даже не спрашивали.
Казалось бы, эти курсы ни особых денег не давали, ни надежд на какую-нибудь карьеру, что уж Ира могла от них ждать? А у нее опустились руки. Пришла домой, прилегла на тахту… Тут еще позвонила старушка, которую она метапелила, Эстер, сионистка, социалистка из толстовцев — были тут и такие, Эстер, может быть, последняя из них осталась, она уж и сама запуталась, кто она, — прошла тюрьму с пытками и лагеря, потом тут вышла замуж за араба и арабо-еврейский кибуц пыталась создать, — того, что пережила, хватило бы на несколько жизней, и уж ее-то, девяностолетнюю беспомощную старуху, история с курсами никак не должна была заинтересовать, а она переживала и расстраивалась из-за своей Иришеле, словно случилось что-то страшное. И тут некстати пришли Векслер с Лилечкой. Векслер злорадствовал — он ведь все предсказал, ему приятно было, что прав оказался.
— Вы грамотные? Что ж вы сами такую книгу не написали? Почему нет «Международного центра Дашкевич»? Вам ошибки в тексте мешают? А этому мудаку нравится писать с ошибками. Ну вот хочется ему написать «аретмия» — почему нет? Демократия, свобода слова! Пожалуйста, пишите свою книгу без ошибок, без этой рекламной вони, от которой вы зажимаете носы, — у вас получится серенькая книжонка стоимостью в тридцать шекелей, а студенты будут выкладывать последние деньги и платить четыреста шекелей за это дерьмо, изданное, как иллюстрированный каталог Лувра или Эрмитажа. Вам противно, вы не любите дерьма — пожалуйста, мойте полы, у нас демократия.
Он сидел, самодовольный, поучающий, снова позвонила Эстер — она так разволновалась, что ей плохо стало, сослепу какие-то не те таблетки приняла, что-то перепутала, Ира должна была бежать к ней, собирала для этого силы, и вот эта слепая старушонка, путающая таблетки и политические партии, Толстого с Марксом, что-то понимала, не путала что-то главное, живо сочувствовала, а Векслер и не хотел понимать ничего, он даже гордился своим нежеланием понимать:
— Вы ж с Эстер хотели демократию? Вот и хлебайте полной ложкой. Что такое демократия? Борьба между противоположными интересами. Нет шкурной борьбы — не будет демократии, выродится в бюрократизм. В большой стране все затушевано из-за размеров, там может быть десять пособий для одного курса, а в маленькой стране борьба — это собачья грызня, разинутые пасти и озверевшие морды, тут все обнажено. Маленькая страна имеет и свои преимущества. Тут не убивают, как в России, потому что убийцу сразу поймают. Поэтому просто гадят друг другу в суп. Демократия — это суп с дерьмом.
Ира наконец заставила себя подняться, собралась — прибор, чтобы давление померить, какие-то таблетки, что-то из холодильника, между делом сама проглотила оптальгин…
— Григорий Соломонович, я ведь тоже учила «Манифест коммунистической партии».
— Да, я коммунист, — сказал он.
По пути к Эстер мы подвезли Векслеров к ним на Штампер, и в дороге Векслер продолжал рассуждать про противоположные интересы и про общий интерес. У него выходило, что Израилю ради общего интереса, то есть чтобы выжить, немедленно нужны диктатор, национализация банков и монополий, смертная казнь и всякое такое.
Ира недоумевала: какой безответственный человек! У Эстер до сих пор шрамы на спине болят, уж она коммунизм на своей шкуре испытала, и здесь испытала не меньше, и из-за мужа-араба, и из-за своего социализма, и из-за своего толстовства, и осталась такой же, какой была в юности, способной понять другого человека, а Векслер хорошо жил и тогда, когда его ученики нацеливали ракеты на Эстер и его собственную мать, и сейчас всех поучает.
— Может быть, он и был хороший математик, — сказала Ира, — но сейчас он, по-моему, спятивший дурак.
Ночью Лилечка позвонила:
— Грише плохо.
Она не в первый раз нам звонила, доверяя Ире больше, чем здешним врачам, и каждый раз тревога оказывалась напрасной, но я завел «фиат», и мы поехали на улицу Штампер. Ира измерила давление, что-то дала старику, ждала, пока подействует. Ему хотелось говорить. Лилечка все успокаивала: не надо, Гриша, не волнуйся…
— Я знаю, что такое наука, — сказал он. — Этого уже никто не знает. Россией правил Сталин, а разве не тираны всегда были покровителями искусств и наук? Демократия со всеми своими спонсорами и конкурентами фетишизирует пользу. Есть разница между наукой, которая ищет пользу, и той, которая ищет истину. Сегодня наука стала протестантской, а Сталин создавал что-то вроде католических монастырей за крепостными стенами. Он умер — они остались. Мы жили, отгороженные от всякой суеты. В наше время биографиями ученых зачитывались больше, чем сегодня — биографиями эстрадных звезд. Мы и сами чувствовали себя особыми существами. Рисковали жизнью в горах, водили знакомства с циркачками. Когда я на «волге» навещал дядю-парикмахера в Бендерах, обкомовцы не знали, чего от меня ждать. Я никого не боялся…