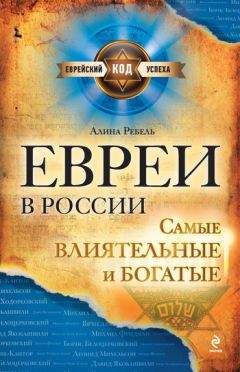«У нас иногда такое бывает. Люди меняются, переезжают. Почта попадает к нам».
Она посмотрела Науму в глаза и, отвернувшись, зашелестела бумагами. Наум оставил письмо. Через месяц пришел вызов с печатью. И он понял, что участвует в игре, правила которой ему неизвестны. Но это не остановило его. Он твердо решил уехать.
И тут Геля неожиданно стала на дыбы.
– Нам там нечего делать. И ты никуда не поедешь! Это искалечит мальчику жизнь. Концерты, конкурсы – ему всё перекроют.
Столько лет учебы, труда. Из-за твоей блажи он должен стать учителем музыки в сельской школе? Не будет этого! Я всё узнала. Ты не получишь от меня развода, а без развода разрешения на выезд не дадут. Мы прожили вместе почти четверть века.
– Не вместе, а рядом, – перебил Наум.—Ты любила себя, я – себя!
– он с раздражением глянул на жену, и вдруг кольнуло: «Как похожа на маму!».
– А кто в этом виноват ?! Ты! У вас порода такая, – вспыхнула Геля.
– Хватит! – оборвал Наум, – я отработал на вас двадцать один год. Три раза по семь. Теперь свободен. Хотите, поехали вместе. Не хотите – уеду один. Думайте, – глянул исподлобья и отрезал, – хотя тебе не советую. Там нужно хребтину ломать. Ты не из таких. Постарайся устроить свою жизнь здесь. Я не против. А развод дашь, никуда ты не денешься. Не дашь, всё равно уеду. Для меня это дело решенное.
Когда сын пришел домой, он положил на стол конверт и прихлопнул ладонью:
– Это вызов в Израиль. Я уезжаю. Не уговариваю. Думай сам.
Неизвестно выпустят ли. Не знаю, что ждет тебя там. Но помни: дорогу тебе стелили мои деньги. Учителя, репетиторы – ни в чем не было отказа. Тебе не нужно было заботиться о хлебе насущном. Ты способный, но не талантливый. Для твоего дела этого мало.
– Папа, ты помешан на своих деньгах и ничего не понимаешь в моем деле, – Эля отстраненно, холодно посмотрел на Наума и отрывисто добавил: А мама? О ней подумал?!
– Не тебе судить! – оборвал его Наум, – У нас свои счеты.
– Ты ни с кем не можешь жить в согласии, – вспылил сын, – даже с самим собой. Но в твоем возрасте уже пора угомониться, папа.
– Ха, – криво усмехнулся Наум, – в моем возрасте мужчины в нашей семье начинают всё сначала. Ты вспомнишь мои слова. У тебя это ещё впереди.
Наум подал документы. Потянулись месяцы томительного ожидания. Отказ пришел спустя полгода, в канун октябрьских праздников. И начались хождения по канцеляриям и кабинетам. Он вкладывал в это всю свою неуемную энергию и топил в неустанных хлопотах тоску рода Ямпольских. В большом сером здании на площади, где двадцать лет назад ему твердили о его еврействе, теперь втолковывали и совестили, что негоже русскому человеку покидать родину. В конце концов открыто начали грозить тюрьмой, намекая на артельные дела. И тогда он решился. Вечером, подкараулив Турина у его дома, оттеснил к газетному киоску:
– Слышал новость? Колька Вольский умер! – оскалился в ухмылкею. – Давай наново знакомиться. Наум Ямпольский. Жид чистой воды. Или меня выпустят из страны, или пойду с повинной.
Мне ходу назад нет и терять нечего, все равно живу, как в тюрьме. А ты рискуешь многим. Так что решай…
… В конце лета Наум получил разрешение на выезд. До границы его провожал сын.
Всю дорогу они обменивались ничего незначащими словами. Но когда остались считанные минуты, сын, крупно сглатывая от волнения, торопливо заговорил:
– Папа, ты родился в еврейской семье. Но ведь жизнь прожил как русский человек. Что тебя гонит в Израиль? Антисемитизм? Но где ты видел систему без изъянов? И как ты себе представляешь страну, где собрались бывшие изгои? Это пороховая бочка! Раздор, борьба за власть! Что тебя туда несет? Зачем всё время себя испытываешь?
– Не бойся за меня, сынок. Не переживай. Я битый, как-нибудь выкручусь, – Наум бережно коснулся ладонью щеки сына и, ощутив колкую щетину его плохо выбритого подбородка, чуть не заплакал от тоски и страха перед разлукой. Он через силу улыбнулся, – насчет музыки я был не прав, сынок. Хорошо, что у тебя есть за что держаться в этой жизни. Но помни, на песке замок не строят. И знай – евреем может быть лишь тот, кто на это согласен. Трижды подумай, прежде чем взвалить на себя этот камень. Старайся жить легко.
Жалею, что я не могу тебя этому научить.
Ему хотелось сказать что-то важное, что могло бы уберечь сына от ошибок и метаний. Но очередь тронулась с места. И его понесло, как щепку в водовороте. Толпа приперла к железному барьеру. Молодой солдат открыл турникет, отсчитал пять человек. Наум попал в их число. Он поставил на оцинкованный прилавок свой багаж. Таможенник небрежно ткнул пару раз баул, где были сложены носильные вещи Наума. А затем начал нехотя копаться в чемодане, перебирая колодки, мотки дратвы, сапожный инструмент.
– Золото, бриллианты, валюта, ордена имеются? – он сурово посмотрел на Наума.
– Нет. Но если не веришь, ищи. Это твоя служба, парень, – Наум кивнул на скарб.
– На полный досмотр, – процедил сквозь зубы побагровевший таможенник.
Наум кое-как побросал скарб в чемодан, и его повели длинными извилистыми коридорами. В комнате, за письменным столом, углубившись в какие-то бумаги, сидел майор с худощавым непроницаемо-строгим лицом. Наум протянул документы. Майор их небрежно перелистал.
– Ничипорук! – крикнул майор, и в дверь вошел сержант-сверхсрочник, – осмотреть!
– Раздевайтесь догола, – приказал сержант и подтолкнул Нюмчика к ширме.
Наум, ни слова не говоря, закатал штанину, отстегнул протез и швырнул его на стол майора. В комнате повисла тишина.
– Ничипорук, выйди! – чуть слышно сказал майор.
– Есть! – козырнули сержант с солдатиком и скрылись за дверью.
– Забери это! – майор брезгливо кивнул на протез, обутый в зеркально начищенный ботинок, – что в чемодане?
– Сапожный инструмент, – Наум откинул крышку.
Майор бросил взгляд на его руки с несмываемыми следами вара и порезов.
– Что за народ! – он внезапно стукнул кулаком по столу, – вечно мутите воду! Притворяетесь своими, но внутри-то у каждого – наблюдатель и вражина. Вы умеете делать деньги из воздуха. Вас топчут, а вы всё равно рветесь к власти, цепляясь друг за друга! Вы как бурьян – повсюду!
– Ты прав, майор, – перебил Наум, – мы живучи и неистребимы. Мы умеем делать деньги из воздуха, но мы умеем и работать, как проклятые! Когда падаем – грязнее грязи, но когда возносимся, хотим ухватить звезду с неба. На меньшее не согласны. Сотни путей находим, чтобы добиться своего. И многим из нас наплевать – праведные они или нет.
– Ты там ещё поплачешь кровавыми слезами, – майор швырнул через стол документы.
– И это правда, майор. Но мне не впервой, – усмехнулся Наум.
– Катись к такой-то матери! Ничипорук, – и надсадно крикнул, – Ничипорук, проводи к поезду.
Наум вошел в пустое купе, уложил вещи, сел и закрыл глаза. «В 42-ом году в вагоне для скота, под конвоем меня насильно увозили отсюда. А теперь сам, по своей воле покидаю эту страну», – мелькнула горькая мысль. Поезд тронулся. Он прильнул к окну. На душе было тревожно и муторно: «Может быть, мальчик прав? Что связывает с евреями меня, Кольку Вольского? – и тут же возразил сам себе, – разве этот отъезд не мой личный исход из Египта?» Он провел рукой по лицу, вздохнул. Задернул на окне шторы. Запер дверь на задвижку. Достал чемодан, разложил на столике инструмент. Отстегнул протез, зажал его между ногой и культей. Поддев подошву ботинка, оторвал её у носка. Вынул из специально сделанной выемки Геогиевский крест. Подышал на него. Протер краем салфетки.
Сунул в нагрудный карман и прошептал: «Мы ещё повоюем, папа».
Fort Lee, июль 2003 г.
Было ли тому причиной наше сиротство или прошлая кочевая жизнь, но мы с сестрой быстро и прочно прижились в приморском южном городе у одинокой чудаковатой тетки Мани. Отец наш, черная армейская кость, подгоняемый беспощадной службой, то и дело переезжал с места на место. Матери не стало давно, я ее помнила смутно. И все же чувство обездоленности вызывало внезапные вспышки неистовой обиды на весь мир. Я бунтовала и злобилась.
Тетка – тихая старая дева, никогда не имевшая ни своей семьи, ни детей, насмерть пугалась этих вспышек. Губы ее начинали мелко дрожать, на лице проступали крупные рыжие веснушки, а большой нос с аристократической горбинкой наливался влагой. И шмыгая им, словно провинившаяся девчонка, она беспомощно лепетала:
– Что ты? Что с тобой?
– Дед Лазарь ей кланяется, – деловито объясняла сестренка, много младше меня, не прерывая своей сосредоточенной возни с куклами.
– Он что? Опять приходил? – тихо ужасалась тетка.
Мои выходки напрочь выбивали ее из колеи. И потому после бури, когда все утихало и мы с сестрой, наконец, укладывались спать, она погружалась в горестные раздумья. Отколов пристежную косу, распустив по плечам рыжеватые тонкие волосики и намазавшись пахучей мазью от веснушек, садилась у стола. При скудном свете лампы-грибка долго разглядывала семейные фотографии. Я знала: она ищет сходство между мной и дедом Лазарем. Иногда тихо роняла: