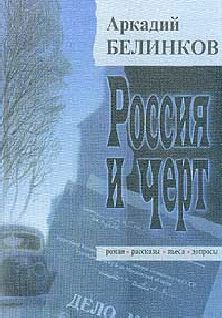Я понял сказанное и ужаснулся. Я испугался этих слов, как затаенного признания, слишком похожего на правду.
Передо мной была гладкая желтая стена. Слова отскакивали от нее и рикошетом попадали опять в меня. И я повторял их. Где была Марианна, я не знал. Но она была где-то рядом. Сбоку или за спиной. Наверное, она с ужасом глядела на меня и дрожала. Вдруг я услышал ее голос, влажный и прерывающийся:
- У Андре Жида... он говорил: больше всего нас мучает непонимание близких. Мы больше всего страдаем из-за этого. И нам из-за этого очень больно.
Я повторил рикошетом ударившиеся в меня слова:
- О, как вы правы! Больше всего нас мучает непонимание близких. Это вы измучили меня! Как вы сделали так много за эти несколько дней? Я больше не могу! Я болен. Я не могу больше! Убирайтесь прочь!
Я бросился в сторону. Улица взбежала вверх. Дома ложились под ноги. Я бежал по окнам, и оконные рамы хлопали меня по ногам.
Я выбился из сил и пошел шагом. Улица отряхнулась и, отдышавшись, выпрямилась, став вполне приличной. Журчали трамваи. Из репродукторов падали мелкие гроздья "Соловья". Все становилось вполне буколическим, и хотелось вместо новенького плаката, призывающего к истреблению немцев, повесить голубое шелковое полотнище со стихом Феокрита:
Стадо овечек с тех пор возвращалось домой без призора.
Когда я начал развешивать это великолепное полотнище, показалась Марианна. Она торопли-во подошла ко мне, опустив голову и закрывая шею, на которой блестело ожерелье еще не высох-ших слез, и попросила тихо:
- Подарите мне вашу фотографию. У меня нет. Пожалуйста.
Наверное, мне показалось это слишком сентиментальным. Но я вспомнил, что у меня девя-носто шесть ее фотографических изображений и сколько радостных воспоминаний связано у меня с каждым из них. И всюду разная. Потом совсем белая на теннисном корте - невеста. Этого нельзя было делать. Испытание еще не кончено. Но я не выдержал и тихо сказал:
- Я дам Вам. Зайдите ко мне.
Дома больше не ложились под ноги. Я все глубже входил в улицу. Перекрестки похожи на киносъемку. Я старался вспомнить лучшие из запрещенных слов, которые она писала мне и говорила. Ничего не мог вспомнить. Потом вспомнил:
"Милый каприза!"
Наверное, это упрек. Но какой милый! Боже мой, какой милый!
Дома я свалился на диван и закрыл глаза. С утра, кувыркаясь, плавала и за все задевала горькая фраза Ильфа:
- Как легко написать: "В его комнату не проникал луч света". Ни у кого не украдено и - не свое.
Общее, конечно, общее. Так пишут наши поэты. Я не знаю, чья эта рифма "уже - душе". Тоже, наверное, общая. Но мы живем этим, этими общими словами. Все общее. У нас ничего своего нет. И я самым общим и пошлым образом смертельно оскорбил самого дорогого человека, без которого я задохнусь через несколько же дней.
Вошла Марианна. Она была строгой и сдержанной. Мне хотелось, чтобы она была расстроен-ной. Нет, она только покойна и сдержанна.
Я спросил:
- Что вам?
Она молчала.
Я взял шкатулку с письмами и фотографиями. Она попросила:
- Отдайте мне их. Все.
Я был поражен. Я отобрал все ее фотографии и протянул ей.
- Теперь, я полагаю, моя фотография уже не нужна Вам.
Она не просила. Ну, стало быть, не нужна. Потом опустила голову. Потом - вышла.
Угол буфета с размаху разбил мне бровь. Я пошатнулся и присел. Я видел стол, по которому надо было ударить кулаком. Шиллер был фарфоровым и кудрявым.
Испытание подходило к концу. Ночью война была более явной. Она выдавливала из улиц свет и прижимала его к внутренней стороне окон. И все нервничали, боясь, как бы кусочки света не выпали из щелей ставень и штор и не рассыпались на тротуарах, смешные, разбегающиеся и светло-греческие.
О жизни методами commedia dell'arte. Социология читательского вкуса и критика Аристо-телева канона. Нравоучительная легенда о ста спасенных девственницах. Баллада о девяносто шести фотографических изображениях Марианны.
О смысле христианской трагедии, заключающейся в том, что адские тернии находятся в замкнутой сфере догадок и предположений, ибо никому еще неведомы апостериорные пути к ним. После Средних веков и Данта, пытавшегося заглянуть в эту сферу, стало еще хуже, потому что стало страшнее.
О том, как с героем этой книги случилось несколько иначе. Он не пошел гипотетическим путем. По обочинам той дороги, по которой шел герой, стояли указатели, которые привели его прямо в девятый круг. Вероятно, на своем пути Аркадий попирал добрые намерения все простить Марианне, примириться с врагами Маяковского и проникнуться вполне комсомольской, небом разрешенной любовью к людям, убежденным в том, что главная истина содержится именно в оглавлении газетного нумера. Но этими добрыми намерениями не случайно оказалась устлана именно адская дорога, по которой пошел герой этого сочинения.
Если классическую трагедию смотреть, как перевернутую фильму, прежде всего узнавая о смерти героя, то в комедию она превратится не потому, что раньше мы увидим могилу, а потом кинжал, которым закалываются герои. Просто у такой преображенной драмы будет радостный конец. Как известно, именно по такому принципу, построена Дантова поэма.
Нашу пьесу надо было тоже глядеть с конца. Тогда в финале перевернутого изображения мы должны были с нежностью поцеловать друг друга. Но мы были не зрителями этой пьесы. И даже не были ее авторами. Мы были только героями. К тому же это была классическая драма, краткий, но категорический сценарий которой был уже написан Евгенией Иоаникиевной и предложен нам с Марианной.
Дома было темно и холодно. Еще не знали. На столе еще был Блок. На нем письма. На них - Достоевский.
Почему все эти люди так легко согласились с тем, что они все должны быть простыми, хоро-шими и ни в коем случае не отличающимися друг от друга даже несомненными достоинствами?
Зачем они тратят столько времени и сил на праздные убеждения других людей в истинности или необходимости вещей, о которых эти убеждаемые люди знают все, что знают их агитаторы, и с которыми они вообще отнюдь не собираются спорить?
Почему все они ни о чем не хотят думать и рассуждать тотчас же, как только обнаруживается сомнительное наличие похожего на ответ отрывка из канонического текста?
Как могут все эти люди, занимающиеся самыми разнообразными делами, не дорожить свои-ми занятиями и быть готовыми по первому знаку внести свой труд малой толикой, превратив его в любую из предложенных форм, в сумму общечеловеческого благополучия?
Зачем они свели историческую роль подавляющего большинства великих ученых и артистов к незначительным прецедентам в истории, превращая их в заблуждавшихся и недалеких людей и канонизируя некоторых из них, сведенных до унизительного положения предшественников?
Как легко разоблачить их, но как тягостно оставаться потом расстроенным и разбитым наедине с черепками недавнего спора и постоянно убеждаться в том, что, опровергая их, неминуемо доходишь до отрицания ставшей отвратительной и липкой от их проповеди и низведенной до роли плотного обеда в жизни удивительной фантазии поэтов об общечеловеческом счастье.
С ними нельзя спорить о методах. Они ссылаются на историю. И с этим необходимо согласиться. Все-таки они правы, когда, не считаясь ни с чем, приносят в жертву тысячи думавших иначе людей. Но как не правы они (и сколько рокового в этом заблуждении), полагая в человеке коллек-тивное начало. Человек всегда только один. Его близкие это только плохо осведомленные горячие советчики.
Убежденность в истинной правде нужна не как совесть, а как физиологическая необходи-мость, подобная дыханию.
Многие из нас тоже в основание своей программы положили бы общечеловеческое счастье, но тогда нельзя думать вкривь и вкось и нельзя верить в заведомую неправду. А мы не можем иначе.
Природные законы - это неизбежности. Наука их только обходит и обманывает. Законы человеческих отношений невозможно обойти. По крайней мере, мы с Марианной не могли. Обманывать мы тоже не могли. Необходима была опытная проверка. Выжили бы мы друг без друга? Должен ли я был застрелиться? Поседела ли бы Марианна? Опыт должен был создать новые стимулы.
Я захватнически люблю Марианну. И чем сильнее, тем с большими разрушениями. Ее характер рассыпался, и на смену разрушенному приходили новые взгляды и, главное, - привычки. Раз-дражением была гордость, помноженная на упрямство. Оно медленно проходило, как усталость, вызванная непривычкой. Так устают губы от чужого языка.
И теперь самым важным было дознаться, что же произошло, наконец.
ПРОЕКТЫ СЕРЬЕЗНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ
Начиналось с сентенций.
Вдруг выглянула - уже полузнакомая,