Все это она именно так рассказывала мне, видимо, то же самое она говорила и дезертировавшему Бремеру, который делил с ней ложе на матрасах в кухне, но тогда она, наверно, лишь изредка прибегала к местному наречию, а вот в старости это случалось чаще; так было и у моей матери: чем старше она становилась, тем больше в ее речи встречались гамбургские словечки. А что же Бремер? Бремер лежал на полу и слушал. Ему было всего двадцать четыре, так что он мог рассказать, разве только несколько военных историй, которые она не захотела слушать. Но просто лежать рядом с ним было приятно. Ощущать своим телом его тело. Ведь можно разговаривать друг с другом, даже не произнося при этом ни звука.
— Мое тело было немо и глухо. Почти шесть долгих лет, за исключением кануна сорок третьего года. — Об этом она тоже поведала Бремеру. — Мне было просто говорить о своем прошлом. Он внимательно слушал. Он-то ведь умолчал о том, что у него есть жена. И маленький ребенок. Может, поэтому и не мог ни о чем рассказывать. Я бы все равно привела его к себе и спрятала. И это никак не связано с тем, что он мне понравился. Я бы каждому помогла, кто не хотел больше воевать. Спрятала бы безо всяких. Это, конечно, пустяк, но он заставил бы наших великих споткнуться. Только вот таких нас должно быть много, чтобы свалить их. Взять твою бабушку, она была очень смелой. Как-то раз она даже сцепилась с эсэсовцами. Ты знаешь историю с дубинкой?
— Нет, — солгал я, но лишь для того, чтобы услышать ее из уст фрау Брюкер. Эту историю еще ребенком я неоднократно слышал от своей тети, а случилась она летом сорок третьего года. Бабушка, дочь ростокского булочника, крепкая седая женщина, носившая из-за большого живота корсет, обладательница «Креста за многодетность», никогда не интересовалась политикой. Она занималась воспитанием пятерых детей. Но позднее она открыто выступила против перевооружения. Бабушка жила на Старой Каменной улице и была ответственной за противовоздушную оборону, поскольку славилась своей энергичностью. Во время первого массированного налета на Гамбург, в июле сорок третьего, она вытащила из огня двоих ребятишек, спалив себе при этом волосы, а вместо ресниц у нее остались только малюсенькие желто-коричневые комочки. Русские военнопленные убирали завалы на Старой Каменной улице, худые, голодные, наголо остриженные. Латышские эсэсовцы били их резиновыми дубинками, заставляя работать. Тогда бабушка, повесив на руку стальную каску как хозяйственную сумку, решительно подошла к одному латышскому эсэсовцу, избивавшему пленных, и отняла у остолбеневшего охранника дубинку. Многие были свидетелями ее поступка. «Ну, хватит уже», — сказала она ему. И пошла дальше, и никто не осмелился задержать ее.
— Надо уметь сказать «нет», — резюмировала фрау Брюкер, — как Хуго. Он очень мужественный. Ставит в медпункте компрессы старикам. Я не всегда поступала правильно. И часто на многое закрывала глаза. Но потом мне представился шанс, в самом конце войны. Может, это было лучшее из всего, что я сделала: я спрятала солдата, чтобы его не расстреляли и чтобы он не стрелял в других. А то, что случилось потом, связано с очень скорой развязкой. Понимаешь?
Нет, я не понял, но сказал «да», лишь бы только она продолжила свой рассказ.
Они лежали на кухонном полу, на своем матрасном плоту, и вслушивались в тишину, царившую за стенами дома. Город молчал. Потом они услышали, как где-то далеко проехала машина с громкоговорителем. До них донесся квакающий, искаженный голос из репродуктора. «Слышишь? — спросил он. — Ты поняла что-нибудь? Что он говорит? Это по-немецки?» Она прислушалась: «Чушь». И принялась рассказывать о том, как здесь в первые военные дни учили делать затемнение, тогда по городу так же ездили машины с громкоговорителями. Теперь они учат, как защищаться от русских. У них ведь тоже есть самолеты. Но, говорят, они как мухи вареные. «Тихо, — оборвал ее он, — замолчи наконец!» Черт побери, он по-настоящему разозлился. Но она продолжала говорить, упорно и с какой-то лихорадочной поспешностью. Он вскочил на ноги и кинулся к окну. «Осторожно! — крикнула она. — Не открывай окно». Громкоговоритель замолк. «Похоже на английский язык», — сказал он. «Глупости, просто говорили на портовом жаргоне, кто-то из окружного руководства, я узнала его. Это Френсен». В ожидании Бремера она приподняла одеяло. Но он не стал ложиться, натянул морскую форменку и подошел к окну. Так он стоял с голыми худыми ногами и таращился на улицу.
Всеобъемлющая глубокая тишина. Время от времени над городом пролетали бомбардировщики. Но никаких взрывов. Лена уснула. Во сне она причмокивала. Он опять улегся в постель. Посреди ночи только раз коротко взвыли сирены, будто город издал стон, пробудившись от страшного сна, наполненного горящими деревьями, плавящимся асфальтом и резкими всполохами света. Когда-то он нес вахту на своем сторожевом корабле далеко на севере, пока благодаря значку конника его не перевели в другое место. Скакать на коне — это он любил. Ему стоило лишь провести рукой по крупу лошади, вспотевшей от скачки лошади, и потом понюхать ладонь, чтобы ощутить запах ветра, лошадиного пота и кожи, который оставался на руке, навевая воспоминания о Петерсхагене, о Везере, о лугах, простиравшихся до самой реки, которая несла свои воды между извилистыми берегами не столь стремительно, но приметно, с многочисленными маленькими водоворотами.
Он проснулся утром. С улицы доносились голоса, шум мотора с перекрестка, но не генератора, это был другой шум, тише, чем от дизеля. «Люди на улице, — произнес он, стоя у окна. — Запрет на появление на улице отменили». Ей надо спуститься вниз, узнать, что там, сейчас же, пожалуйста. Немедля. Он торопил ее, словно не мог дождаться, когда же, наконец, она покинет эту кухню, эту квартиру. Даже не дал ей приготовить кофе и не обнял ее. Бремер стоял у окна и смотрел на Брюдерштрассе, полностью одетый, словно готовый, не мешкая ни секунды, ринуться вниз, на волю, объятый единственным желанием без оглядки бежать прочь отсюда.
Она направилась к Гросноймаркт. Улицы постепенно заполнялись жителями, все только и говорили что об англичанах, которые со вчерашнего дня находились в городе. Городом опять командовал генерал, но уже не в сером мундире, а в другом, цвета хаки. Было отмечено несколько случаев мародерства, но к женщинам никто не приставал. Однако детям шоколад тоже не раздавали. Как обычно, возле кранов с водой выстраивались очереди. Но нигде не было видно ни одного немецкого мундира, ни серого, ни голубого и уж тем паче коричневого. Она пошла в направлении рынка у ратуши. На мосту Святого Михаила ей повстречался первый англичанин. Он сидел на люке дозорной бронемашины и курил. На голове берет, плечи пуловера сделаны из кожи. Этот пуловер чем-то напоминал кольчугу. На англичанине были широкие коричневые брюки, гамаши, сапоги со шнуровкой. В бронемашине находился еще один «томми», на нем были наушники, и он что-то вещал по радио. Тот, что сидел на бронемашине, подставил лицо лучам солнца. Стало быть, это победители, подумала она, сидят себе и греются на солнышке. Рядом с английской машиной расположилась большая группа немецких солдат. Они пристроились на каменном бортике тротуара. Один солдат держал возле себя ручную тележку, на которой лежали рюкзак и два ранца. Ранцы, такие были у рейхсвера, с отделкой из телячьей шкуры. Это были пожилые солдаты, с разномастным снаряжением. На плечах одного из них, старика с пластырем на носу, лежало, словно колбаса, свернутое шерстяное одеяло. Небритые, они выглядели очень усталыми. Англичанин не обращал внимания на немцев, а те на англичанина. Вот только они не подставляли солнцу свои лица. Большинство сидели, уставясь прямо перед собой. А кто-то и вовсе снял сапог, положил рядом дырявый носок и выковыривал грязь между пальцами на ногах. Время от времени он нюхал руку.
Когда Лена вернулась на Брюдерштрассе, то увидела перед входом в подъезд огромную толпу. Тут были соседи, чужие, а также два немецких полицейских. И первой ее мыслью было, что пришли арестовывать Бремера. Быть может, кто-то обнаружил его или он сам отважился выйти из квартиры и от фрау Эклебен узнал, что война окончилась. Лена Брюкер протиснулась сквозь толпу зевак и оказалась на лестничной клетке нижнего этажа. Там стояли фрау Клаусен и моя тетя Хильда, которая жила на втором этаже и в кухне которой, ребенком, я сиживал с таким удовольствием. «Бедняга, — сказала фрау Эклебен, — не вынес такого позора». — «Что случилось? И, ради Бога, с кем?» — спросила Лена Брюкер, ее сердце пронзил ледяной холод. Тетя Хильда указала на входную дверь Ламмерса, который жил в самом низу, позднее туда, по слухам, перебрался часовщик Айзенхарт. Какой-то мужчина попытался поймать галку Ламмерса, вылетевшую из клетки, и теперь она в беспокойстве металась по комнате. А где же Ламмерс? Фрау Эклебен указала на площадку полуподвального этажа, там, в темноте, перед входом в бомбоубежище, на привязанной к перилам первого этажа веревке висел Ламмерс. На нем была форма квартального стража, голова его склонилась набок, словно он хотел к чему-то прислониться, к чьему-то плечу или груди. Должно быть, он надел и стальную каску времен Первой мировой войны, но она свалилась с его головы и теперь валялась под ним, словно ночной горшок.
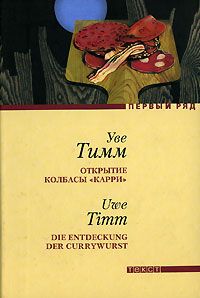
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)


