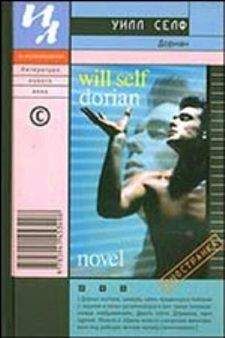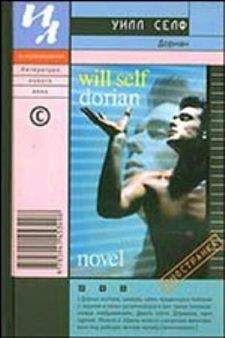Внутри Бэз немного помедлил, выясняя, где находится отделение «Бродерип», а после, следуя полученным указаниям, пошел по коридорам, холлам, вверх по лестницам, мимо всего обычного для рабочего дня больницы движения: больных на каталках, больных в креслах с колесиками, плакатов с рекламой недугов, младшего персонала, поеживавшихся посетителей. Все чисто, опрятно, куда ни обрати взгляд, тот наткнется на цветовые терапевтические коды. Когда Королевская Курильщица прониклась интересом к моровой язве геев и вознамерилась сама открыть «Бродерип», сюда призвали художников по интерьеру. И при том, всего в нескольких дюймах от пути, по которому следовал Бэз, вентиляционные каналы давились заразным пыльным пушком и застаивались оставленные швабрами лужи — со своим переносчиком малярии каждая. Однако Бэзу, с миссионерским рвением стремившемуся вперед, узнать об этом было не суждено.
На шестом этаже он подкатил по полированному полу к толстого стекла окну, у которого стоял светлого дерева стол с восседавшим за ним светловолосым, с деревянными чертами санитаром, бездымно сгоравшим от гнева. Как и многим из работников «Бродерипа», этому тоже предстояло вскоре догореть дотла. Санитар вперил в Бэза оценивающий взгляд; попроси его, он назвал бы число Т-клеток Бэза с точностью до 10. Вам известно, куда вы направляетесь? — спросил он.
— Я ищу мистера Уоттона.
— У Генри сейчас жена. Он вас ожидает?
— Я позвонил этим утром и сказал, что приду.
— А, так это вы Бэз Холлуорд, — похоже, у санитара имелось что к этому добавить, однако он не добавил ничего.
— Именно так.
— Да, вас он определенно ожидает, — собственно, ему не терпится вас увидеть, он сказал, что вы — противоядие от наших царственной гостей…
— Простите?
— Принцессы Ди, она была здесь несколько минут назад, вы разве не заметили по дороге сюда весь тарарам? Жаль, что ей пришлось притащить с собой жену этого милитариста.
Санитар — его звали Гэвин, — мог бы кое-что добавить и к этому, но тут появилась Нетопырка, оплетенная по кругу пластиковым пакетом, сумочкой и ключами от машины. Казалось, и миновало-то не десять лет, а всего десять минут, ибо она пребывала в том же бессмысленном возбуждении, что и всегда. Разумеется, с виду Нетопырка повзрослела, однако переносить ее труднее не стало. На самом-то деле, ее несколько более матронистый габитус — хорошо скроенный твидовый костюм, темные колготки и нешуточные жемчуга — срабатывали, как визуальное успокоительное, позволявшее наблюдателю с большей легкостью выдерживать ее дурацкий делириум.
— М-м, да, Гэвин, простите, что потревожила…
— Да, леди Уоттон?
— Диана Спенсер совершенно сбила меня с толку, не то, чтобы мы с ней были знакомы, разве что en passant, но мы ее совсем не о-жи-да-ли. Нет-нет, совсем. Я хотела сделать ей реверанс, однако Генри так не любит подобных проявлений низкопоклонства. Говорит, что присесть в реверансе это «пописать всухую», — вульгарно, но точно. Кстати… Генри спрашивал, не будете все вы против, если он завтра выпишется…
— Не будем.
— Я заберу его после ленча, утром у меня семинар, надо будет прихватить Фебу, няня должна пойти к дантисту… Конечно, Гэвин, вам это не интересно, но Генри так хочется получить на ужин что-нибудь вкусненькое из «Ф-Фортнума», его друг, Сойка, принесет ему это к… около девяти?
— Но леди Уоттон, вы же знаете, нам не по душе посещения этим другом Генри нашего отделения — и по очевидным причинам…
— О, ну конечно, я вас вполне понимаю, он иногда ведет себя довольно глупо. Я и сама не люблю, когда он к нам приходит, вот только Генри так настаивает, говорит, что если Сойку к нему не пустят, так он вообще уйдет отсюда еще до окончания вашей смены. Сказал, чтобы я попросила именно вас…
— Что касается меня, я сделаю это исключительно ради вас — не ради Генри. Вы меня понимаете, леди Уоттон?
— О, аб-со-лют-но, Гэвин, все п-полностью постигла. Крайне благодарна, огромное спасибо, а теперь мне пора… надо померить… — Нетопырка уже было стронулась с места, но тут заметила Бэза. — Вы ведь Бэзил Холлуорд?
— Он самый, — Бэз приблизился к ней и щеки их сухо соприкоснулись.
— Я вас, наверное, лет уже пять не видела.
— Я бы сказал, скорее, десять.
— Генри говорил, что вы придете, он так вас ждет — теперь, когда у него эта з-з-зараза, ему хочется видеть только старых друзей… Он сказал, что вы порвали с миром искусства, избрали иное направление, полностью изменили свою жизнь…
— Все так, Нетопырка. Надеюсь, мне удастся помочь измениться и Генри.
— О, сколько я представляю, теперь уже слишком поздно, ха-ха, хотя… — Почувствовав, что сказала лишнее, она испустила нервное ржание, и снова затараторила: — Вы еще побудете в Лондоне, правда? У вас есть, где остановиться?
— Со мной все в порядке.
— Ну, ладно, но вы пообедаете с нами… завтра? И во все прочие дни… Уверена, Генри тоже предложит вам это. Генри не изменился — если ему кого-то хочется видеть, то видеть хочется постоянно.
— Я был бы рад, Нетопырка.
— Хорошо, хорошо, значит, договорились. Завтра. Пока, Бэзил, пока, Гэвин, мне пора бежать.
И она убежала, хотя описать ее уход, как бегство, означало бы впасть в ошибку, — Нетопырка уцокала, обутая в придворные туфли, ковыляя, раскинув в стороны руки. Двое мужчин обменялись взглядами, каждый предостерег другого — не смеяться.
— Ну что, Бэз, Генри свободен. Он в палате номер шесть, — вам лучше пойти, повидаться с ним, пока не явился чертов Сойка.
Вдоль цепенящего бело-розового коридора тянулись кубоидные комнатушки, разделяемые шедшими от поясницы до потолка, затянутыми координатной сеткой окнами. Там и сям на обитых ковром выступах стояли посудные сушки с журналами или горшки с мясистыми растениями. Именно такой обстановки Бэз и ожидал — он уже побывал во многих местах вроде этого. С чем он вовсе не готов был столкнуться, так это с дерганными живыми копиями «Крика» Мунка, которыми кишел коридор.
Разумеется, это была картина, существование которой многие и признать-то были не способны; а способные ухитрились полностью изгнать ее из своего сознания на том надменном основании, что они-де читали же в газетах статьи об эффективности комбинированной терапии. Если такие изможденные существа и встречаются еще где-либо, — так они полагали, — то разве в Киншасе, или Кигали, или еще какой дыре на букву К, где-то там, пониже Сахары.
Однако в отделении «Бродерип» в этот день 1991 года наличествовали целые эскадрильи молодых людей с пилотскими усиками, подбитых зажигательными снарядами болезни. Их смахивающие на отопительные батареи реберные клетки и глаза узников концентрационного лагеря мгновенно давали понять, что это не столько место, где залечивают будничные раны и повреждения гражданских лиц, сколько лазарет близ передовой линии боев со Смертью. А если требовались какие-то еще подтверждения сказанного, они поступали в виде постоянной перетасовки очередности оказания помощи изувеченным. Изувеченные ковыляли, обутые в «Сколлсы» и «Биркенстоки» (обычная обувь едва ли смогла бы умерить их невропатию), волоча за собою капельницы на стойках с колесиками. Лица их были изрыты саркомой Капоши, каждый третий глаз — залеплен. У некоторых ясно различались сквозь кожу исхудалой груди непристойные, цвета плоти канюли катетера Хикмана, — Бэзу пришлось замедлить шаг, огибая этих ходячих раненных, и потому, после приятной пробежки по Шарлотт-стрит, в палату номер 6 он вошел, словно пришибленный недугом.
В палате царила все та же поразительная грязища, что всегда ассоциировалась с Генри Уоттоном. Знакомое зловоние ударило в ноздри Бэза, едкое сплетение сигаретного дыма, спиртных паров и застарелого пота. Только здесь все подстилалось запашком больничного дезинфектанта, точно так же, как переполненные пепельницы и испятнанные стаканы располагались на больничной койке, на покрытом пластиком шкафчике и на колесном столике, а не на разномастных предметах обстановки челсийского дома.
Кроме прочего, тут имелись — полупустая бутылка шампанского и две пустых, из-под красного вина; множество скомканных газет и книг с растрескавшимися корешками; и шелковый шарф окутывал настольную лампу, отогнутую так, что она лила будуарный свет свой на потолок. Кто-то притащил сюда пресс для брюк, через который перекинуты были наряды Уоттона: «Кромби», пиджак от костюма, шелковый галстук, льняная сорочка с заляпанными кровью манжетами и так далее. Снаружи, поверх крошечного подоконника, стоял на грибных ножках голубь, воркуя в вечном сумраке светового колодца. В верхний угол коробчатой комнаты затиснулся телевизор. Он работал, но звук был увернут, — дикторша ныла что-то о распаде Советского Союза. В вазах цветного стекла оплакивали гибель своих ароматов дорогие цветы. Кончина их сообщала ощущению, оставляемому комнатой больного, лишь пущую болезненность.