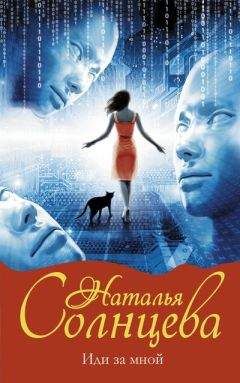— А то я раз была в стариковской компании, — ничего были, вежливые, лет под пятьдесят. Но на морду, конечно, крокодилы… Я так испугалась, что не стала вторую рюмку пить, — и тут Женька захихикала, — а то, бывает, какой-то допинг в вино незаметно вливают.
— Допинг? Что это?
— Не знаю. Что-то такое.
— А-а…
В троллейбусе, в тесноте и давке к ним пристал пьяный. Гордая Женька выставила локти вперед и молчала, смотрела уничтожающе, а Валька, понимавшая мир проще, замахнулась на него сумочкой и крикнула: «Ну ты!.. Подрасти сначала. Метр с кепкой!» — из троллейбуса они выскочили повеселевшие и смутно приготовившиеся к началу начал.
Они пришли. Они познакомились. Девушек ждали. Музыка ревела вовсю.
Они сели за стол, и Валька сказала:
— Да сделай же потише. Ни слова не слышно!
Далее рассказ двигался по канонам жанра: деться тут было некуда, фабульный костерок поддерживался тем, что девчонкам Сережка показался и нравился куда больше, чем Колька. Или наоборот, разность имен неважна, да я и не помню. Словом, обе нацелились на одного и даже слегка поссорились. А время шло к ночи: они танцевали то так, то этак попарно, томясь и нервничая и никак не желая в итоге оказаться с малосимпатичным внешне Колькой.
Однако смирились. Страсти выбора поулеглись; в рамках квартиры и всего лишь двух парней девицам некуда было деться, как и мне в рамках рассказа: они поладили. Валька, как более знакомая и более здесь своя, выбрала Сережку; Женька ограничилась Колькой. Женька решила, что лето длинное и как-нибудь на химкинском пляже она еще отвоюет себе смазливого мальчика — переиграет; а пока пусть идет как идет. Она тут же эту свою мысль забыла: дело шло к ночи, музыка и вино расслабляли, и мысль была из разряда самоутешающих: самообман на время. Диалогов и всей психологической игры уже не помню и потому сразу перескочу к той минуте, когда парочки разбрелись по разным комнатам и погасили свет. Впрочем, небольшая сценка колорита ради: Женька, считавшая, что заслуживает лучшей участи, чем ушастый Колька, дулась, а парни как раз плохо отозвались о ее любимом актере Баталове.
— … Что вы смыслите в мужчинах? — заорала она вдруг на них. — Он интеллигент. А вы хамы!
— Тише, тише!
— Вы тупицы и хамы. Слюнтяи… Чего посмеиваетесь — чего? — она вышибла из рук предназначавшегося ей ушастого Кольки сигарету: — Хамы… А ты, Валька, не подруга, а сводня!
Она вырвалась из объятий Кольки — легко вскочила на подоконник, сначала на стул, потом на подоконник. Они и глазом не успели моргнуть. Она прыгнула в темноту распахнутого окна, локтем она задела створку, стекло с грохотом посыпалось, частью сюда, а крупными осколками за окно. Все кинулись следом — к окну. В кустах, в темноте она что-то выкрикивала гневное. «Перепила», — сказал Сережка.
— Совсем спятила. Хорошо, что первый этаж, — заметил ушастый Колька.
— Дура, дура! — кричала Валька.
А Сережка-студент отер со лба пот: он вспомнил, что квартира чужая и что на шум могут запросто примчаться соседи, никого из ночных пришельцев не знающие. Тем не менее Сережка вместе со всеми продолжал хохотать — сели за стол, смеялись и опорожняли рюмки; рюмки, конечно, тоже были чужие, об этом тоже Сережка на миг вспомнил. Вскоре Женька явилась. Она была слегка оцарапана и слегка все еще дулась; ей дали штрафную рюмку. Теперь «вечерушка на хате» потекла ровнее, как выравнивается всякий процесс после некоторого необязательного всплеска; в конце самоопределившиеся парочки оказались в разных комнатах. И свет был погашен. Только на кухне горел свет. Валька и Сережка вдвоем.
— Но-но, хватит! — отталкивала его Валька. Они устроились на тахте. Сережка (если я правильно помню) упрекал Вальку, что она, стало быть, его не любит или же недостаточно любит. Он выдавал потоком этакое юношески-напористое, чистое, наивное блеяние, он не закрывал рта. Валька высвободилась. Валька оттолкнула его решительнее; ощущение ночи и темноты придало отталкиванию подчеркнутый смысл не отсрочки, а отказа; Сережка набрался смелости и спросил: «Ты что — девушка?» Валька заплакала. Она всхлипывала и теперь рассказывала, какая у нее в жизни была любовь. Большая любовь. Необыкновенная. Она и тот человек любили друг друга; они жили, как живут муж и жена, потому что подали уже заявление. И за неделю до свадьбы он погиб. Он был летчик-испытатель.
— Не плачь, — со вздохом произнес Сережка и погладил ее; рука его теперь была мягкая, он ее успокаивал. Они опять лежали рядом, опять прижавшись, и Сережка опять склонял ее к мысли полюбить его, возник новый оттенок: он советовал постараться забыть того, первого — что поделаешь, погиб значит погиб.
Женька и Колька были в другой комнате; тоже в темноте; тоже на каком-то ложе. Там, разумеется, происходило нечто похожее — но было и свое: ночь неожиданно пробудила в Женьке нежность. «Зацелую тебя», — говорила, шептала она и предпочитала сама целовать ушастого Кольку. Колька был полон агрессивных намерений, но Женька своими поцелуями его сковывала и держала слишком лирическую и на его, Колькин, взгляд слишком затянувшуюся ноту. Сердце Женьки (она много дней скучала) исходило нежностью, она никак не могла нацеловаться досыта. «Да дай же я поцелую тебя!» — чуть не вскрикнул Колька и потянулся к ней, тут произошла короткая бессловесная стычка — и вот Женька уже строгим и холодноватым голосом отчитывала его и объясняла, что она не хочет так быстро, что девушку надо уважать и не надо торопить и что они оба будут после стыдиться, если сейчас поспешат. Колька тер зацелованный лоб и никак не мог уразуметь, чего он будет после стыдиться. Он попросту не поверил Женьке. Он подумал и спросил: «Ты девушка, да?» Женька немного помолчала, коснулась его щеки пальцами и тихо заговорила:
— У меня была большая любовь, Коля. Мы должны были пожениться. Но он вдруг погиб за неделю до свадьбы — он был летчик-испытатель, ты же слышал, что это за профессия.
Колька молчал. Она продолжала касаться его щеки пальцами.
— … Теперь ты понимаешь, Коля, почему я не могу спешить. Я обожглась один раз в жизни. Я теперь всего боюсь.
— Понимаю. Я очень понимаю. — Колька опять приник к ней и опять стал уговаривать: в конце концов погиб это погиб, это случайность, и нельзя же останавливаться на полпути. Оттуда возврата, насколько, он, Николай, понимает, нет…
Ночь шла. Рассказ все более наполнялся ночными негромкими разговорами двух парочек. Собственно, эти разговоры и составляли суть рассказа: я метил в сторону незлобивого подтруниванья над юностью и любовной игрой, имея в виду определенный перекликающийся параллелизм их ночного шепота — обе пары нет-нет и вновь шептались о летчике-испытателе, который с некоего момента стал незримо здесь, в темных комнатах присутствовать. Молодые женщины рассказывали, как каждая из них познакомилась с летчиком. И как он провожал, и как первое время она считала, что это очередное знакомство, не более того. И как он сразу же (или не сразу), придя в дом, понравился маме.
— Он пришел с цветами и с шампанским, — говорила Валька.
— Он пришел усталый-усталый. Только что из полета, — говорила Женька.
Перенося на отдельных ударных репликах читателя из одной темной комнаты в другую — и, не затягивая, вскоре же назад, — я добивался посильного эффекта, однако повествование вдруг двинулось в иную и неожиданную для меня сторону. Дело в том, что у каждой из двух молодых женщин рассказ о летчике обрастал глубоко личными подробностями: началось с простенькой лжи, но теперь уже была не ложь или не только ложь. Каждая из них вполне независимо от другой рисовала свой образ любви, свой отход и свое отшатывание от киношного стереотипа, короче: свою любовь, какую она хотела бы. У одной летчик был высокий, смешливый и, пожалуй, драчун на улицах. Он не мог пить спиртное как профессионал летчик и очень мило врал: «Нет-нет. Не могу… Я вчера дико напился. Не уговаривайте меня, ребята, — ВВС свою норму знает». У другой летчик был интеллигентен, насмешлив, беспечен и пил, если хотелось. Он был испытатель, а не пассажирский летчик, в конце концов, если считать головы, он рисковал только собой.
Парни вышли на кухню перекурить: они оставили дам в темноте в полуразобранном состоянии, они вежливо позвали их выпить и подкрепиться, но те отказались. И вот парни стояли на кухне, щурясь от света. Покурили. Нет, сначала выпили, потом закурили, и Сережка негромко спросил — ну как?
— Никак, — ответил Колька.
— Но все-таки получается, как думаешь?
— Думаю — да. Дело нескорое… А у тебя?
— То же самое.
Помолчали. Сережка, словно извиняя подругу за нерешительность и некоторую несовременность, сказал — оно бы и просто, да вот память ей мешает, память о первом мужике: он кратенько выложил приятелю рассказ о летчике-испытателе. Колька присвистнул:
— Ну дает летчик! И когда это он успел обеих?