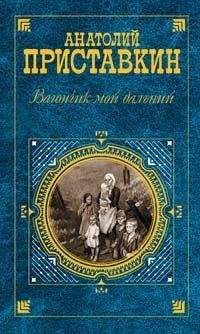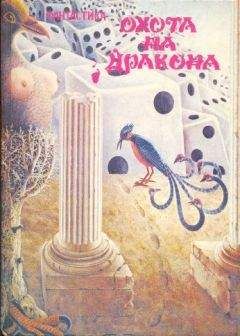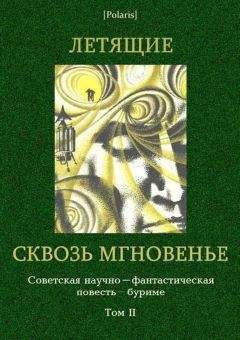О комиссарах мы не разобрали. Однако, когда он сравнил их с Мешковым, стало ясней: такие же суки.
Но вот что нас с Шабаном удивило… Нет, не удивило, поразило. Даже оглушило. То, что произошло дальше. Мы сперва не поверили услышанному.
Глотыч сказал так: — Хотите у меня остаться? — И после паузы: — Ну?
Первый наш безмолвный вопрос: «Что-о???»
Второй, тоже безмолвный: «Как это?»
Третий, четвертый…
Или он охренел, или мы с Шабаном спятили! Какая дурь не шибанет в башку среди ночи?! Все это, видать, отразилось на наших недоуменных рыльцах. И он предполагал такую реакцию. Но повторил на выдохе, даже с хрипотцой:
— Остаться, говорю… Насовсем. В этой избе?
Теперь мы поняли, что не ослышались. Однако все равно было не разобрать, что он на самом деле задумал.
— Насовсем?
— Насовсем.
— Это как? — поинтересовался Шабан. Он первым догадался, что это означает.
— Жить будете… Работать.
— Работать? На вас?
— Зачем? На себя!
Было произнесено с досадой. Обиделся, значит.
Глотыч новую «козью ножку» свернул, закурил и к окошку подошел. Чего уж он там все время выглядывал, непонятно. Ночь на дворе — черней черного. Как сажа в трубе, из которой мы еще в Таловке чернила делали.
Стоя спиной, он спросил вдруг:
— А чего к вам этот… Ну посыльной-то ваш приходил?
— Какой… посыльной?
— Да какой-какой… Не видать в темноте, какой… Семь верст до небес, и все пехом. А в две стороны — уже четырнадцать! Пусть не хоронится энтот соловей, скажи… Накормлю за такой красивый свист!
Мы с Шабаном переглянулись. Ловит? На пушку берет? Иль, взаправду, слышал?
Глотыч шумно вздохнул, стал молча чадить цигаркой. Все-то он, лешак, знал… Заметил, походя, не глядя на нас:
— Вы если бежать надумали, то бегите… Не держу. В бане, что ли, все время держать?! Но подкормитесь для начала. На огороде уже поспевает. А вот при доме останетесь… — Он пристально поглядел мне и Шабану в глаза. — Все ваше будет. — Повел рукой, зацепив цигаркой за что-то, искры посыпались от нее. — А работать, что ж… Работать везде надо. У меня али не у меня. Так у меня, скажу, лучшей… Я хоть оценю… А у комиссаров, у тех отработал — и в перегной… Я их систему давно понял. Сперва, как они в книжках пишут: город-сад… Город-сад… А в том саду сплошь кресты растут!
Глотыч снова заглянул мне и Шабану в лицо, чтобы убедиться, что дошло. Махнул рукой:
— А тепереча топайте на сеновал! С утра делов много.
Костик объявился следующей ночью. Сперва разливался соловьем у дверей бани, пока не сообразил, что нас там нет. Потом запел у ворот: во двор заходить побоялся.
Глотыч первым и услышал, разбудил нас с Шабаном:
— Соловей прилетел, принимайте!
Шабан помотал головой и уснул. А я вышел во двор, снял щеколду, но Костю не обнаружил. Завернул за угол, а он тут как тут. Кусок коряжки светящейся держит, чтобы его лучше найти.
— Привет, — шепчет. — Вас что, с Шабаном прям в дом пустили?
— Пустили, — говорю. А сам стараюсь поближе его лицо разглядеть. Уж очень не понравилось, что он разговор с дома начал.
— Небось, кормежка нашлась?
— Да не тяни ты! — Я чуть не закричал. — Кормежка… Кормежка! Ты говори, что случилось… Вагончик на месте?
— Вагончик на месте.
— С Зоей?
— Нет. Не с Зоей.
— С кем тогда?
— С Шурочкой.
— Говори! Говори!
— Давай присядем, — предложил вдруг он.
Мы присели прямо на траву у стены дома. По тому, как он себя вел, я уже догадывался, что он скажет. Я не торопил его. Чем дольше не знать, тем лучше.
— Вот как бывает, — произнес он негромко и вздохнул. — Померла, значит, наша Шурочка.
— Померла? Сама?
— Померла, — повторил Костик.
Далее из не очень связного рассказа дружка удалось выяснить, что у штабистов с Зоей вышел конфликт: не пошла она к ним на ночь, не захотела. Они тут же силой забрали Шурочку. А утром та вернулась в вагончик, кто видел, говорят, была не в себе. Никого не узнавала и сестру не узнавала, которая прождала ее всю ночь. А в следующую ночь выждала, когда Зоя заснет, и удавилась.
Мы с Костиком больше ни о чем не говорили. Тут не говорить, тут надо гранату хватать и к черту всех разнести. Ох, как я пожалел, что не заметил тогда наган у майора на столе!..
Когда опомнился, спросил:
— Зойка там?
— Нет, — ответил Костик и вздохнул. — Она здесь. Разве можно там оставлять?
— Так что же ты!.. — Я крикнул, и сам испугался своего крика. Но, правда, сколько сидим, а она оказывается здесь, рядом…
— Где, где она?
— В кустах, — сказал Костик. — И не кричи, деревню разбудишь. Сейчас приведу.
Костик шмыгнул в темноту, а я остался ждать. Стоял оглушенный как колуном по башке. И мысли рассыпались: Зоя, Шурочка, штабные крысы, от которых вся напасть. Слово «напасть» отчего-то застряло в мозгу и вызывало судорогу в животе…
Я вернулся во двор, но тут же выскочил за ворота, решив сам их искать. Прошел черной улицей, но ничего не увидел. Темные тени домов, заборы, деревья и ни одного огонька. Вдруг испугался, что Костик с Зоей уже пришли, что они уже во дворе, а меня нет, и повернул назад, споткнулся и больно ударился о камень коленкой. Хромая, дошел до двора, но он был пуст.
Только теперь я заметил, что стало светать. Потерев саднящую коленку и обругав дурацкий камень, бросился снова на улицу и тут увидел.
Сперва ее. Костик стоял сбоку и старался нам не мешать. Кажется, он даже отвернулся.
Так она и запомнилась посреди улицы в светлом платьице и беленькой косыночке. В редеющей мгле я смог различить ее лицо, глаза. Но это были не глаза, провалы, несущие в себе еще большую черноту, чем та, что нас окружала.
— Зоенька, моя…
Не помню сейчас, произнес ли я это вслух. Но она услыхала. Она сделала неуверенный шаг вперед, а я шагнул к ней. Тогда она вытянула вперед руки, как это делают слепые, прикоснулась ко мне холодными пальцами, стала меня ощупывать: щеки, лоб, шею. Она не верила, что я — это я. Странный скулящий звук, вовсе не женский, даже не человеческий, коснулся меня и пронзил насквозь.
Господи! Господи! Да что же за напасть такая, если для нее нет слов, один звериный крик?! Она уткнулась лицом в мое плечо, и оно сразу онемело от тупой боли.
— Зоенька, моя, — повторял я. — Зоенька, моя! — Кажется, вслух. Она намертво вцепилась в мою одежду, словно боялась, что я исчезну. Я ладонями коснулся ее спины и через тонкую ткань почувствовал, как ее лихорадит…
Мы даже не обсуждали, надо или не надо бежать. Мы знали: к утру Петька-придурок обнаружит, что ее нет, и понесется в панике докладывать в штабной вагон. А там рассуждать не любят, поднимут тревогу, пришлют конвой и арестуют. Еще и изметелят по дороге за то, что пришлось тащиться пехом за семь верст.
А тревогу-то поднимут не только потому, что потеряли человеко-единицу… Для них это — тьфу! Перетасуют список, наврут, смухлюют и такой красивый марафет, такой дебет-кредит наведут в бумагах — ни один проверяющий инспектор не подкопается. Но все дело в Зойке: главный свидетель их преступлений сбежал.
Мы-то не собирались никому ничего рассказывать. Знали: пустое. Мы спасали сами себя. Однако я твердо решил: если удастся дойти до их притона-штабнухи, гранатой взорву! Пусть там охрана, оружие… Подожгу, взорву! Камнями забросаю! А вот потом — в бега. Если бы Глотыч дал мне свою берданку! Не даст…
Мой рассказ он выслушал, стоя на крыльце и упершись глазами в пол. Пробормотал:
— Это мы проходили.
Ушел в дом и вынес два ватника, мешочек с махрой и сало, завернутое в тряпицу.
— Бегите, — буркнул в бороду. — Они сюды прискачут.
Мы продолжали стоять посреди двора. Это ведь только сказать: бегите. А куда бежать-то? Кругом лес, сквозь него дорога на полустанок, другой дороги мы не знаем. Может, ее вообще нет.
Уже объявились две Кати, стояли в одинаковых позах, рассматривая нас с Зоей.
— Присядьте-ка на дорогу, — сказал Глотыч. — Они тотчас не прибегут, потому как ленивые. А мы должны крепко подумать.
Мы присели на ступеньках. Только Кати остались стоять. Младшая на меня не смотрела, только на Зою.
— Совет мой такой, — начал Глотыч. — В лес не ходите, заблудитесь. Там болото, зверье… Да бандюгов много. Вы к железке ступайте, узкоколейка у нас для лагерных… Топайте по ней, пока до Юргомыша не дойдете. Наш районный центр. В него не заходите, там вас стеречь будут. Милиция, комиссары с поезда… Людоеды ваши… Эти не помилуют, застрелят. У них такое право есть: беглецов стрелять. Чтобы, значит, следов не оставалось.
Он помолчал, разглядывая Зою. Мы все на нее сейчас смотрели. Беглец-то она, о ней и речь. Мелькнула шальная мысль: обстричь бы ее под мальчика, обрядить, сажей зачумазить… Да уж больно глазаста да фигуриста… Не проскочит.