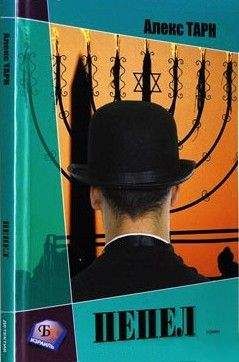— Скажите, Хаим, — сказал он как можно небрежнее. — Что вы имели в виду, когда сказали, что они преследуют вас повсюду? Ну, про шестьдесят лет?
Мудрец снял очки, подул на них, хотел надеть снова, но почему-то передумал, положил на стол и уставился невидящим взглядам на иерусалимские горы, голубеющие над верхушками сосен.
— Это длинная история, Береле. Вы вот все время дразните меня моими годами…
— Я? Это вы непрерывно прохаживаетесь насчет моей зеленой молодости! — возразил Берл, но старик только отмахнулся и заморгал, будто смаргивая берловы возражения, как попавшую в глаз ресницу.
— Ничего страшного, мой мальчик. Я ведь и в самом деле стар. Стар и болен. А вы молоды и здоровы. Так что все в порядке, каждый из нас может хвастаться только тем, что имеет. Езжайте в Брюссель и будьте осторожней. Голуби — жестокие птицы… Идите, идите. Я тут еще посижу.
Берл стал спускаться по склону. Старик, жуя губами, смотрел на его высокую широкоплечую фигуру, на то, как ловко и безошибочно он перепрыгивает с камня на камень. Удачи тебе, мой мальчик… Берл помахал ему снизу рукой. Старик не ответил. Берлов БМВ рванул с места и исчез за близким поворотом. Сильные парни любят быстрые сильные машины. Немецкие машины. Сам старик органически не переваривал ничего немецкого — ни автомобилей, ни одежды, ни съестного. Ничего… хотя сейчас, когда прошло столько времени, такой бойкот выглядел бессмысленным. Да и чем, в принципе, поведение немцев в той войне, в Катастрофе, отличалось от поведения французов?.. латышей?.. бельгийцев?.. австрийцев?.. Если уж быть последовательным, то следовало бы бойкотировать всю Европу. Все это старик понимал и не раз досадовал сам на себя, когда в магазине автоматически откладывал в сторону понравившийся утюг, обнаружив его немецкое происхождение. Глупость ведь, глупость… а вот поди ж ты, ничего с собой не поделаешь. Аллергия какая-то необъяснимая — не мог и все тут.
В июле сорок первого года им исполнилось одиннадцать. Ему и Йохевед, сестре-близняшке. Жили они тогда под Советами в маленьком белорусском местечке. Большая семья… В ту пору были очень большие семьи, даже огромные, невзирая на высокую детскую смертность… а может быть, именно из-за нее. Бабка Мудреца рожала семнадцать раз, а выжили только девятеро. Чуть больше половины, и то слава Богу. А все равно ведь большая семья получилась. Мудрец задумчиво кивнул. Очки снова запотели — странно в такую сухую погоду. Он снял их и протер клетчатым платком. Внизу под горой неуверенно ударил колокол и тут же смолк, будто испугавшись.
Дома у старика лежала столетняя фотография, непонятным образом уцелевшая в кровавой суматохе минувшего века. Тогда делали снимки на совесть, будто предчувствуя тяжесть грядущих испытаний. Твердый картон, хорошая печать, точная выдержка, ретушь, где требуется. Дед и бабушка сидят, старшие дети стоят вокруг, младшую девочку бабушка держит на коленях. Это будущая мама Мудреца, Мирьям. Бабушке, должно быть, лет тридцать пять, на ней длинное платье с пышным рукавом, твердо сжаты тонкие губы, взгляд прямой и уверенный — хозяйка дома, глава семейства. Дед в темном мешковатом костюме; мягкие черты лица, мягкий взгляд, мягкая улыбка… Все мягкое, только руки твердые даже на глаз — узловатые руки ремесленника, отдыхающие сами по себе на дедовых коленях, как четырехлетняя Мирьям — на бабушкиных.
Семья работала по шорному ремеслу — конскую упряжь делали для всего уезда. Искусство это тонкое, долгой учебы требует. И все равно, сколько ни учись, а настоящим мастером можешь стать только по чему-то одному. Ничего удивительного, так оно во всем, кому что Господь назначил. У кого-то хомуты получаются, а у кого-то седла. Да… Мудрец начал осторожно спускаться к шоссе — не напрямик, сломя голову, как его молодой напарник, а по длинной спиральной тропинке, осторожно придерживаясь за ветки и темно-серые каменные зубья. Обидно сломать ногу в такой ситуации. Один, в будний день… лежи тут потом, жди, пока обнаружат. Надо было спуститься вместе с Берлом.
В молодости человек уверен, что принадлежит сам себе… да не только он, но и весь мир заодно. А потом обнаруживается, что пределы владений не столь широки. Сначала из списка собственности исчезают внешние объекты: люди, предметы, события… все, весь наружный мир без остатка, все, кроме тебя самого. Но уж это-то, последнее — мое? Уж сам-то я могу поступать с собой, как вздумается? Ан нет, и тут ошибка. Старик остановился, чтобы отдышаться. На лбу выступила испарина, он присел на каменный обломок, поерзал, устраиваясь поудобнее. Последнее открытие заключается в том, что даже сам ты не принадлежишь себе, вот ведь какая штука. А кому?.. Или — чему?.. А какая, собственно, разница? Важно, что не себе. Эта нога, к примеру, чужая, и ломать ее у тебя нету никакого права, понял, старый ты хрыч? Внизу проехала машина. Все-таки ездят, хоть и будни. Ну, давай дальше, осторожненько, осторожненько…
Бабушка вот эту простую истину насчет собственности поняла очень рано. Она не принадлежала себе с ранней молодости. Семье — это да, а себе — нет, не принадлежала. Особенно, когда дед умер. Деда Мудрец не знал, они с Йохевед родились намного позже. От деда осталась только та фотография, где он с руками, живущими отдельно. Бабушка положила ее в маленький фибровый чемоданчик — видимо, потому, что она идеально подходила по размерам — как раз закрывала все дно. Это было летом, и она жутко ссорилась со всеми одновременно. Бабушка требовала уходить немедленно, бросить дома и уходить, бежать. И это выглядело совершенным безумием, потому что кто же так бросает свой дом, свою печь и кровать, и обеденный стол, и одежду в сундуке, и посуду в шкафу… и всю свою жизнь? Разве так можно?
Самое странное, что к этому призывала именно бабушка, именно она, прожившая на том месте дольше всех, родившая там семнадцать детей, из которых выжили девять, и вот они, все девять, уже взрослые люди с семьями, и у каждого свои дети, и никто из них не понимает, как это так можно — все бросить и бежать неведомо куда. И тогда бабушка заплакала и сказала, что коли так, то она спасет кого можно, а можно было только близнецов — Хаима и Йохевед, потому что их родители в тот момент как раз уехали в Витебск на неделю, и получалось так, что совершенно некому было защитить близняшек от вдруг обезумевшей бабушки. А они ревели и ни за что не хотели уезжать, они хотели оставаться вместе со всей семьей, с дядьями и с тетками, и с несметным количеством двоюродных братьев и сестер, со всеми, кто спустя всего три дня уже лежал в лесном рву, глядя мертвыми глазами на верхушки сосен.
Мудрец снова остановился, держась рукой за сосну. Здесь сосны другие — низкорослые, корявые, с длинными мягкими иглами. Там, в Белоруссии, были стройные, высоченные деревья, и крона у них начиналась под самыми облаками, а они ехали втроем на подводе — бабушка, он и Йохевед, и из вещей у них был узел с одеждой, мешок картошки и фибровый чемоданчик с фотографией. Бабушка увезла их от смерти. Вся остальная семья погибла, все до одного, включая младенцев, тридцать четыре человека. Бабушка умерла через месяц после этого, в Перми. Просто легла вечером на кровать, а утром не проснулась, как будто посчитав свои обязанности выполненными. Без семьи она не значила ничего в собственных глазах… но в собственных глазах — не важно, собственные глаза, как уже говорилось, далеко не видят. Без семьи она не значила ничего в чьих-то важных, хозяйских, решающих глазах, и поэтому, когда хозяин решил забрать ее, то он просто открыл кровать, как дверь, и увел бабушку за собой туда, где она казалась ему нужнее.
А близняшки длинным путем оказались в Земле Израиля, вместе с фибровым чемоданчиком, одним на двоих. Здесь, в апреле 48-го, по дороге в осажденный Иерусалим, погибла Йохевед, семнадцатилетняя медсестра «Кровавого конвоя», расстрелянного арабами в ущелье Баб-эль-Вад. Мудрец оторвался от сосны, сделал еще несколько осторожных шагов и по ступеньками спустился на шоссе, на ровный, надежный асфальт. Вот видишь, ничего не случилось, даже ноги целы. Теперь он не торопился уезжать, стоял у края обрыва, глядя на запад, в сторону Баб-эль-Вада, а гора Герцля огромным горбом висела у него за спиной, у него на спине; гора Герцля, с военным кладбищем, плиты которого пестрят знакомыми именами, с памятником Яд-ва-Шем, в молчании которого слышны вздохи и плачи его семьи, всех тридцати четырех человек, оставшихся там, во рву, в лесу под белорусским местечком. И золотой брусок с клеймом Прусского Государственного Монетного двора от 1938 года, нежданно-негаданно выплывший из синайской пустыни, странным образом соединял Мудреца, военное кладбище и Яд-ва-Шем в один болезненный треугольник. Лысый, морщинистый, в огромных очках и с горой на спине, старик напоминал черепаху, вставшую на задние ноги.
Меня зовут Ханна, Ваша честь. Я — жена Иосифа, музыканта. Мы поженились весной 41-го года, в мае, 15-го числа, в Антверпене. Мы были очень счастливы вместе в течение всего времени, которое нам подарил Господь, хотя времени этого оказалось не так уж и много. И все равно: мы были счастливы каждую отдельную минуту, а это чего-нибудь да стоит, правда ведь? Мы были тогда еще очень молоды, настолько, что найдется немало людей, которые скажут, что жениться в таком возрасте неосмотрительно, что надо прежде покрепче встать на ноги, да и вообще проверить истинность чувства. Возможно, они правы: не знаю, как бы я сама отреагировала, если бы мой сын вдруг заявился ко мне с подобным требованием, едва перевалив через собственное двадцатилетие. Действительно, рановато, что и говорить. Но у нас с Иосифом имелись смягчающие обстоятельства.