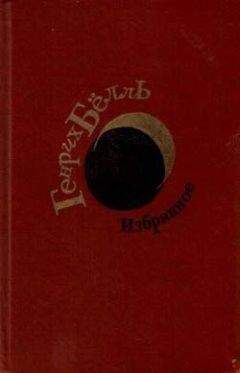А у него на руках ребенок, от которого мать не избавилась. Вильме скоро уже два года, и она почему-то всегда грязная. Лео ненавидит грязь; Лео такой чистюля, его за версту можно узнать по запаху туалетной воды и помады. Руки у него до красноты натерты щеткой, ногти отполированы, и наряду с кондукторским компостером он в качестве оружия применял пилку для ногтей – нескладную длинную железку. Этой железкой он бил Вильму по пальцам. Каждое утро Генрих разогревал воду, чтобы помыть Вильму, как можно чаще менял ей белье, но Вильма почему-то всегда казалась грязной, измазанной, хотя это была умная и милая девочка. Было от чего прийти в отчаяние.
Когда Лео работал в ночную смену, малышка днем на час оставалась на его попечении, потому что мать уходила теперь в пекарню к половине первого, и с тех пор, как Вильма впервые осталась одна с Лео, она, едва завидев его, начинала вопить. Стоило Лео угрожающе поднять свои никелевые компостерные щипцы, чтобы припугнуть девочку, как она заходилась в плаче, с ревом бросалась к Генриху, цеплялась за него и не успокаивалась, пока Лео не уйдет, да и то еще Генрих должен был несколько раз повторить ей: «Лео нет, Лео нет, Лео нет». Но слезы все текли по ее лицу и заливали руки Генриха. После обеда чаще всего он оставался с нею один, и девочка вела себя спокойно, совсем не плакала, а еще лучше было по вечерам, когда Лео с матерью уходили на танцы. Генрих тогда извещал Мартина, который соглашался бывать у них только в отсутствие Лео, – он боялся Лео не меньше, чем Вильма, – и они вместе купали девочку, кормили ее и играли с нею. Не то просто оставляли Вильму в саду у Мартина, а сами играли в футбол. В такие вечера Генрих с Вильмой одни укладывались спать, и он про себя шептал вечерние молитвы и думал о всякого рода дядях. Вильма, засунув палец в рот, чистенькая, умытая, засыпала рядом с ним. Когда у него самого начинали слипаться глаза, он переносил Вильму в ее постельку. А в соседней комнате мать сожительствовала с Лео – он ничего не слышал, но знал все, что там происходит.
Когда Генрих начинал думать, какой из дядей нравился ему больше, он всегда колебался между Карлом и Гертом. Карл был приветлив и аккуратен. Карл – «новая жизнь», Карл – «дополнительный паек». Карл, от которого пахло супом из столовой магистратуры, Карл, оставивший у них брезентовую сумку для алюминиевых обеденных судков, в которую Вильма складывала теперь свои игрушки. К тому же Карл умел делать подарки, как и Герт, – тот приходил по вечерам с ведерком из-под повидла и вываливал на стол весь свой инструмент – кельму, шпатель, фуганок, ватерпас – и свой дневной заработок, который ему всегда платили натурой: маргарин, хлеб, табак, мясо, муку и даже иногда яйца – вещь дивного вкуса, чрезвычайно редкую и дорогую в те времена. И мать смеялась больше всего во времена Герта. Герт был молодой, темноволосый и не прочь был сразиться с ним в лото и в фишки. Когда гасили свет, Генрих часто слышал, как мать и Герт смеются, лежа в постели, и этот смех не казался ему неприятным, в отличие от глупого хихиканья матери при Карле. О Герте сохранились такие хорошие воспоминания, что даже мысль о его сожительстве с матерью не омрачала их. У Герта оставалось темно-зеленое пятно на рукаве мундира, там, где раньше были ефрейторские нашивки, а по вечерам Герт подторговывал алебастром и цементом – он продавал их на фунты; развешивая, он набирал алебастр и цемент кельмой из бумажных мешков – как муку.
Карл был совсем другой, но тоже славный. Из всех дядей он единственный ходил в церковь. Карл и его брал с собой, объяснял ему всю церковную службу и молитвы, а по вечерам после ужина надевал очки, и начинались рассуждения о «новой жизни». Исповедоваться он, правда, не ходил и к причастию – тоже, но в церкви он бывал и на все умел дать ответ. Карл был серьезный, дотошный, но приветливый и дарил конфеты, игрушки, и, когда Карл говорил: «Мы начнем новую жизнь», он всегда после этого добавлял: «Видишь ли, Вильма, я хочу как-то упорядочить нашу жизнь, понимаешь, упорядочить», к упорядочению относилось и то, что Генрих должен был называть его папой, а не дядей. Или взять Эриха – настои со странным запахом, уксусные компрессы, зажигалка, которая до сих пор не сломалась. Эрих остался в Саксонии. А Герт в один прекрасный день просто не вернулся, и они долго о нем ничего не знали, пока через несколько месяцев не получили письмо из Мюнхена: «Пришлось уйти, я не вернусь. Мне было хорошо с тобой, оставляю тебе на память свои часы». В памяти сохранился запах сырого алебастра, а в лексиконе матери оставшееся от Герта слово «дерьмо». И Карл тоже ушел, потому что мать избавилась от «него». Никакой «новой жизни» так и не получилось, он до сих пор иногда встречал Карла в церкви. У Карла были теперь жена и ребенок такого же возраста, как Вильма, по воскресеньям он гулял, ведя малыша за руку. Но Карл, казалось, совсем забыл и Генриха и мать, он с ними не здоровался. Теперь Карл ходил к причастию, и даже с некоторых пор он первым запевал в церкви молитвы, и когда с хоров раздавался голос, говоривший прежде о «новой жизни», о «дополнительном пайке», о «порядке», Генрих не мог понять, зачем мать избавилась от «него». Карл теперь был бы его отцом.
Кто-то из жильцов дома каждый день внизу, в подъезде писал на стене карандашом слово, которое мать сказала кондитеру. Неизвестно было, кто этим занимается. Иногда это слово оставалось на стене весь день, но к вечеру оно исчезало, потому что приходил столяр, у которого под лестницей была маленькая мастерская, соскребал это место гвоздем, и на каменных плитках пола оставался белый след от осыпавшейся штукатурки, а на стене – глубокие царапины. Но неизвестный опять писал это слово, а столяр опять соскребал его. Стена подъезда была уж исцарапана в двадцати местах. Это была немая борьба, и обе стороны вели ее с одинаковым упорством – снова и снова появлялось на стене это слово, и столяр, от которого пахло камфорой, как когда-то от Эриха, выходил из мастерской с сорокадюймовым гвоздем и соскребал его. Столяр был прекрасным человеком. Особенно хорошо относился он к Вильме: по субботам, когда ученик подметал в мастерской, столяр приказывал ему выбирать из мусора все деревянные чурки, отмывать их и относить Вильме, и особенно длинные и кудрявые стружки тоже отдавать ей, а сам столяр, когда собирал деньги за квартиру, приносил Вильме конфеты.
Если столяр заставал дома Лео, он говорил ему: «Я еще вам покажу», на что Лео отвечал: «И я вам тоже». Больше они друг с другом не разговаривали.
Только потом Генрих сообразил и удивлялся, как это он не догадался раньше, что слово на стене пишет Лео; только он и мог это делать, да и слово то было из его лексикона. Генрих стал следить за Лео, когда тот уходил на работу или возвращался с работы домой. Лео ничего не писал. Но зато и слово в те дни, когда он наблюдал за Лео, на стене не появлялось. Слово появлялось только тогда, когда он не мог проследить за Лео. История эта тянулась довольно долго, уже полстены было в скребках и царапинах. Как-то раз, вернувшись из школы и опять увидев в подъезде надпись, он взглянул во время обеда на карандаш Лео – карандаш торчал у Лео за ухом, грифель был весь стерт и вокруг грифеля было маленькое белое колечко: так выглядит карандаш, когда им пишут на стене. Значит, Лео был тем невидимкой, кто писал на стене.
Мать тоже ругала того, кто пишет на стене, и говорила: «Дети не должны читать это», и обычно добавляла, чуть понизив голос: «Они и так слишком рано узнают всю эту грязь».
Но ведь мать сама сказала кондитеру это слово в темном, теплом, пропахшем сдобным тестом подвале пекарни.
А Лео продолжал писать на стене, и столяр продолжал соскребать его надписи, а Генрих все никак не мог набраться мужества сообщить столяру о своем открытии.
Потом, когда они будут толковать с дядей Альбертом о всякой всячине, он расскажет и об этом.
По вечерам, лежа в постели, он рассматривал фотографию отца, освещенную уличным фонарем, тихо, едва заметно вздрагивающую фотографию, она раскачивалась, когда мимо проезжали автомобили, и особенно сильно, когда проезжал грузовик или тридцать четвертый автобус.
Немного осталось от отца: фотография на стене да книжка, которую мать упорно хранила, заложив между детективными романами и иллюстрированными журналами, – замызганная, тонкая, желтоватая брошюрка: «Что надо знать автослесарю при сдаче экзамена на подмастерье». Между листками брошюрки лежала сложенная вчетверо, истрепанная, но еще достаточно яркая, литография, изображавшая «Тайную вечерю», – точно такая же литография есть и у него самого с такой же точно надписью: «Генрих Брилах принял конфирмацию в приходской церкви святой Анны в воскресенье, на Фоминой неделе 1930 года». А у него была приходская церковь святого Павла в воскресенье на Фоминой неделе 1952 года.
Дедушка, отец мамы, остался в Саксонии. Он жаловался на скудную пенсию и каждую открытку кончал словами: «Неужели у вас не найдется комнатки для меня, чтобы мне вернуться на родину?» А мать посылала ему табак и маргарин и писала: «С жильем здесь очень плохо: все так дорого». Мать мамы умерла в Саксонии, а отец отца покоился на здешнем кладбище – покосившийся деревянный крест, к подножию которого они приносили цветы в день поминовения и зажигали яркую свечу. Мать отца – бабушка была не в ладах с мамой, она приезжала только на второй день рождества, привозила ему подарки, а Вильме демонстративно ничего не привозила и говорила точно так же, как Карл: «порядок», «новая жизнь», «это добром не кончится». Одно из ее изречений звучало так: «Видел бы это мой бедный мальчик».