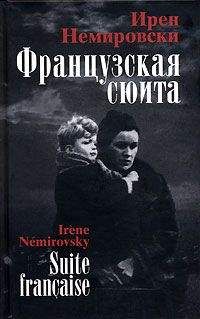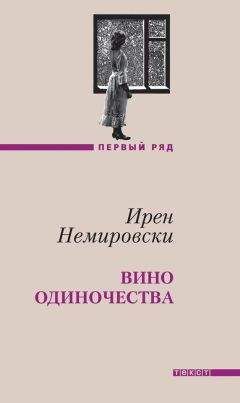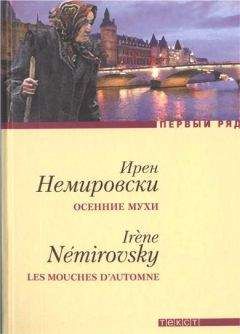Он остановился.
— Улица Парэ-ле-Моньяль? Вот мы и пришли. Года два назад я обедал в этом ресторанчике. Хозяин меня помнит. Подожди здесь.
Он забарабанил в запертую дверь.
— Откройте, откройте, милейший, — крикнул он властно. — Встречайте старого друга!
И чудо свершилось! Послышались шаги, в замке повернулся ключ, испуганный человек высунулся в щелку.
— Ну же, ведь вы меня помните! Я Корт, Габриэль Корт. Просто умираю с голоду, дружище! Да-да, знаю, ничего не осталось, но для меня… поищите хорошенько… Может, что-нибудь найдется? Вот и отлично, вы меня наконец узнали!
— Сударь, мне так стыдно, я не могу пригласить вас, — зашептал хозяин, — меня донимают со всех сторон. Подождите там, на углу. Я подойду. Только ради вас, господин Корт. Мы ограблены, разорены. Хотя, конечно, что-нибудь найдется…
— Конечно, найдется…
— Только, прошу вас, никому не говорите! Вы не представляете, что сегодня было! Сумасшедший дом! Жена слегла от огорчения. Все смели и не заплатили!
— Я знаю, милейший, на вас можно положиться. — Габриэль сунул ему в руку деньги.
Через пять минут они уже возвращались с таинственной корзиной, накрытой салфеткой.
— Понятия не имею, что там, — произнес Габриэль с мечтательным отстраненным выражением лица, с каким говорил о женщине, которой желал обладать, но еще ни разу не обладал. — Понятия не имею… Кажется, пахнет гусиным паштетом…
Внезапно между ними пробежал человек, вырвал корзину, отбросил Габриэля ударом кулака. Флоранс закричала: «Колье, мое колье!» Ощупала шею, — колье на месте, и шкатулка с драгоценностями, которую они теперь носили с собой, цела. Грабитель отнял только еду. Флоранс, целая и невредимая, смотрела, как Габриэль потирает ушибленный нос и разбитый подбородок, бормоча:
— Дикие джунгли, мы попали в дикие джунгли…
15
— Зря ты с ними так, — вздохнула молодая женщина, укачивая новорожденного.
Ее щеки порозовели. На стареньком разбитом «ситроене» они так ловко лавировали, что умудрились выбраться из скопления машин и теперь сидели в леске на мху. Ярко светила полная луна, но и в безлунную ночь при свете полыхающего вдали пожара можно было бы различить, что под соснами стоят машины, отдыхают люди, а на переднем плане между молодой женщиной и мужчиной в картузе — наполовину опустевшая корзина, откуда высовывалось золотое горлышко раскупоренной бутылки шампанского.
— Нет, так нельзя, не к добру это. Мне плохо становится, как подумаю, до чего мы дошли, Жюль!
Мужчина, маленький невзрачный, лицо с кулачок — одни глаза и лоб, рот безвольный, подбородок скошенный, словно у куницы, вскинулся:
— А что нам оставалось? Подыхать?
— Не спорь с ним, Алин, он правильно сделал! Так им и надо! — поддержала его толстуха с обвязанной головой. — Эти двое — нелюди, уж поверь мне!
Они помолчали. Дюжая тетка, пока не вышла замуж, работала служанкой; муж у нее работал на заводе «Рено». Они добились, чтобы в первые месяцы войны он оставался в Париже, но в феврале его все-таки отправили на фронт, и теперь он воевал неведомо где. Хотя он сражался и на прошлой войне и был из четырех братьев старшим — не помогло ничего! Зато у богатеньких и отсрочки, и привилегии, и блат. В душе толстухи таились целые напластования ненависти, копились слой за слоем, не смешиваясь. Крестьянка в ней инстинктивно ненавидела горожан; усталая от жизни в людях озлобленная прислуга — господ; и, наконец, рабочая — буржуа; последнее время она работала на заводе вместо мужа, и от непривычного тяжелого труда у нее загрубели руки и очерствело сердце.
— Да, Жюль, ты им показал, — продолжала она, обращаясь к брату. — Правду сказать, не ждала от тебя такого!
— Я от злости себя не помнил, как увидел, что этот сукин сын тащит шаманское, паштеты и все такое, а моя-то Алин вот-вот загнется с голоду!
Алин, более робкая и мягкосердечная, предположила:
— А разве нельзя было просто попросить у них немножко, разве они бы не дали, Ортанс?
Ее муж и золовка крикнули в один голос:
— Ну, удумала! Надо же! Не знаешь ты их!
— Для таких мы хуже собак! Ты хоть сдохни, они пальцем не шевельнут. Удумала! — кипятилась Ортанс. — Я их получше твоего знаю. Эти-то хуже всех. Видала я их в гостях у одной важной старухи, графини Барраль дю Жё. Он книжонки пишет и для театра пьесы. Шофер его говорил, что он псих и глуп как пробка.
За разговором Ортанс убирала остатки еды в корзину. Грубые красные руки двигались с неправдоподобным проворством и быстротой. Затем она взяла у невестки младенца и перепеленала его.
— Бедный птенчик, несладко ему в пути! Да. Вот он сразу узнает, что за штука жизнь. А может, оно и к лучшему. Мне сызмала круто пришлось, но я о том никогда не жалела. Зато теперь с чем угодно справлюсь, а это не всякий может. Помнишь, Жюль, как мать померла, мне и тринадцати не было, а я круглый год ходила на реку белье полоскала, зимой лед колола, сколько тюков на себе перетаскала… Руки в трещинах, тюк неподъемный, аж слезы текут. Зато всему научилась и теперь ничего не боюсь.
— Ты и впрямь ловкая, — сказала с восхищением Алин.
Взяла от золовки чистого сухого младенца, расстегнула корсаж и дала ему грудь; Жюль и Ортанс глядели на них с умилением.
— Вот и мальцу есть молоко, бедняге!
Шампанское ударило им в голову; все трое слегка захмелели. И в оцепенении глядели на пожар вдали. На время они забыли, почему оказались здесь, в лесу около Фонтенбло, зачем уехали из тесной квартирки рядом с Лионским вокзалом, зачем так долго скитались, для чего ограбили Корта. Все вокруг показалось им расплывчатым, непонятным, как во сне. На нижней ветке дерева висела клетка; Ортанс решила покормить птичек. При отъезде она предусмотрительно положила в сумку пакет с зерном. Потом достала из кармана пару кусков сахару и налила себе горячего кофе, — термос, по счастью, не разбился при аварии. Ортанс шумно отхлебнула из чашки, выпятив крупные губы, снизу она подставила ладонь, прикрывая обширную грудь от пятен. Внезапно среди беженцев разнеслась страшная весть: «Немцы вошли в Париж».
Ортанс опрокинула недопитую чашку, ее красное лицо побагровело еще сильней. Она опустила голову и заплакала.
— Больно как… Больно… Здесь больно, — повторяла она, прижав руку к сердцу.
Черствая, жестокосердая, Ортанс редко плакала, редко жалела себя и других, но теперь плакала и она, скупыми едкими слезами, — с такой силой нахлынули на нее гнев, горечь, стыд, она ощущала физическую боль, у нее явственно и неотвязно ныло сердце.
— Уж на что я мужа люблю, — наконец выговорила она. — Мы с Луи, голубчиком, всегда заодно, кроме него, у меня никого нет, он и работник, и не пьет, и за бабами не бегает, в общем, живем душа в душу, но скажи мне сейчас: ты его больше не увидишь, он убит, но мы победили… Так я бы рада была! Ей-богу, не вру, верь, я бы рада была!
— Ясное дело, — смущенно ответила Алин, подыскивая слова, чтобы поддержать золовку, — ясное дело, мы все горюем.
Жюль молча думал, что избежал призыва, сражений и смерти благодаря руке, отсохшей по локоть. И хотя говорил себе: «Мне здорово повезло», — чувствовал в то же время непокой, будто совесть нечиста. Он мрачно сказал женщинам:
— Так оно вышло, вот так. Мы тут ничем не поможем.
Они снова заговорили о Корте. Съев вместо него великолепный ужин, они насытились и смягчились. Во всяком случае, не судили его строго. Ортанс, служившая в доме графини Барраль дю Жё и видевшая там писателей, академиков, даже поэтессу де Ноай, смешила их до слез, рассказывая про их причуды.
— Нет, они неплохие люди, — заключила Алин. — Просто жизни не знают.
16
В городе Периканы так и не нашли пристанища, зато в пригороде, в доме напротив церкви две старые девы радушно отвели им просторную комнату. Дети засыпали на ходу, их пришлось уложить на одну кровать, не раздевая. Жаклин потребовала, плача, корзину с котом. Ее преследовал страх, что кот убежит, потеряется, что его забудут, он станет бродячим и умрет с голоду. Она не могла успокоиться, пока не погладила прутья корзины, не заглянула сквозь них, словно в крошечное окошко, не увидела зеленый сверкающий глаз и длинные сердито встопорщенные усы. Эммануэль затих, его напугала незнакомая огромная комната, он в ужасе смотрел, как по ней мечутся, будто обезумевшие майские жуки, две старушки, восклицая: «Неслыханно! Страдают невинные малютки! Нельзя смотреть без слез! Сладчайший Иисус!» Бернар, лежа на спине, тоже глядел на них, не мигая, и с важным бессмысленным видом сосал кусочек сахару, который три дня носил в кармане, так что к нему прилипли грифель, гашеная почтовая марка и веревочка. На другой кровати возлежал Перикан-старший. Мадам Перикан, Юберу и слугам предстояло ночевать в столовой на стульях.
Сквозь раскрытые окна был виден освещенный луной садик. Яркий ровный свет лился на белые душистые кисти сирени, по серебристому гравию дорожки неслышно ступала полосатая кошка. В столовой беженцы вместе с местными жителями слушали радио. Женщины плакали. Мужчины молчали, поникнув головой. Не отчаяние, а странное оцепенение овладело всеми, никто не мог поверить в такую явь, все отталкивали ее, как спящие отгоняют кошмар, ждут, когда наваждение рассеется: как никак скоро рассветет! — всем существом тянутся к свету и сознают: «Это всего лишь сон, сейчас я проснусь». Люди замерли, затаились, боялись посмотреть друг другу в глаза. Когда Юбер выключил радио, мужчины без единого слова встали и ушли. В столовой остались одни женщины. Они причитали, вздыхали, каждая оплакивала не просто порабощенное отечество, а своего дорогого мужа или сына, еще не вернувшегося с войны. Женщины горевали естественней, проще и были многословнее мужчин: облегчали душу сетованиями, восклицали: «Господи! Что же это делается? До чего мы дожили! Уж поверьте, мадам, это не судьба, это предательство. Нас всех продали. Бедным, как водится, тяжелее всех!»