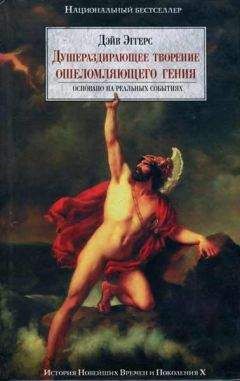— Чего? — орет он.
Кстати, окна в машине открыты.
— Я говорю: «Классно я пою или как?»
Он качает головой.
— Ты о чем это? — ору я. — Я пою классно, понял?
Он закрывает свое окно.
— Что ты сказал? Я не расслышал, — говорит он.
— Я спросил, классно я пою, или как?
— Не-а. — Улыбается он во весь рот. — Ты вообще петь не умеешь.
Я сомневаюсь, стоит ли давать ему слушать группы вроде «Джорни», ведь любовь к ним вряд ли даст ему что-нибудь, кроме посрамления сверстников. Хоть он сопротивляется — ведь дети так редко понимают, когда что-то делается для их же блага, — я учу его ценить всех музыкальных революционеров наших дней: «Биг Кантри», «Хэйркат 100», «Лавербой»[42], — и ему в этом смысле везет. Его мозги стали моей лабораторией, моим депозитарием. Я могу упаковывать туда книги, которые я выбрал, телепрограммы и фильмы, а также свои суждения о выборных деятелях, исторических событиях, соседях и прохожих. Он стал моим круглосуточным школьным классом, моей благодарной аудиторией, и ее дело — переваривать все, что я считаю ценным. Парню дико, дико повезло! И никто мне ничего не запретит. Он принадлежит мне, и вы не сможете запретить ничего ни мне, ни нам вдвоем. Только попробуй запретить нам что-нибудь, пизда! Ты не запретишь нам петь, не запретишь пердеть губами, не запретишь высовывать руки из окна и оценивать аэродинамику различных положений ладони, не запретишь вытирать содержимое наших носов о перед сидений. Ты не запретишь мне на прямом участке давать порулить восьмилетнему Тофу, пока я стягиваю с себя фуфайку, потому что стало, блядь, чертовски жарко. Ты не запретишь нам бросать упаковки от вяленой говядины прямо на пол или оставлять нераспакованный сверток из прачечной в багажнике на… блядь, кажется, уже восемь дней, потому что у нас были другие дела. Ты не запретишь Тофу оставлять почти полный пакет с апельсиновым соком под сиденьем, а он станет там гнить и разлагаться, и в машине начнется невыносимая вонь, и поскольку за несколько недель никто не сможет обнаружить источник вони, окна нужно будет держать открытыми, а когда его в конце концов найдут, Тоф будет зарыт во дворе по самую шею и вымазан медом — ну, то есть, по-хорошему, с ним надо было бы поступить именно так за подобное бесчинство. Никто не запретит нам с жалостью взирать на никчемных обитателей этого мира, лишенных благословения нашего обаяния, недостойных конкурировать с нами, не покрытых боевыми шрамами, а потому — хилых и желеобразных. Ты не запретишь мне велеть Тофу стебаться над физиономиями тех, кто едет в соседнем ряду:
Я: Взгляни на этого обсоса.
ОН: Полный шиз!
Я: А посмотри на этого.
ОН: Я прям не могу!
Я: Дам доллар, если помашешь этому типу.
ОН: Сколько?
Я: Бакс!
ОН: Маловато.
Я: Ладно. Пять баксов, если покажешь этому хмырю большой палец.
ОН: Зачем большой палец?
Я: Потому что напрашивается.
ОН: Ладно, договорились.
Я: Ну и почему не показал?
ОН: Не получилось.
Это нечестно. Силы между Нами и Ими (или вами) слишком неравны. Мы опасны. Мы отважны и бессмертны. Туман вырывается из-под утеса и окутывает трассу. Из-за тумана пробивается синева, а из синевы вдруг резко вскрикивает солнце.
Справа от нас Тихий океан, а мы — на несколько сотен футов выше океана, и нас не отделяет от него никаких заградительных поручней, так что небо не только над нами, но и под нами. Тофу утесы не нравятся, он не любит смотреть вниз, но мы мчимся по небесам, на дорогу вываливаются облака, все пронизано солнечными лучами, а внизу — небо и океан. Только здесь, наверху, земля кажется и впрямь круглой, только здесь, наверху, горизонт округляется по краям, так что боковым зрением можно увидеть изгиб нашей планеты. Только здесь почти веришь, что огибаешь поверхность большого, сияющего шара, который как-то смазанно вращается, — такое ощущение невозможно в Чикаго, там все плоское и прямое, а еще а еще еще мы избранные, вам ясно? мы избранные, нам все это отдали, нам это все задолжали, мы это заслужили, все это, — это для нас небо такое синее, для нас солнце заставляет проезжающие машины блестеть, как игрушки, для нас океан вздымается и пенится, бормочет и воркует. Нам воздали, видите, это все наше, видите. Мы в Калифорнии, живем в Беркли, и неба здесь больше, чем где бы то ни было, — оно тянется бесконечно, его видно с вершины каждого холма — да-да, холмы! — с каждого изгиба каждой дороги в Беркли и в Сан-Франциско… У нас есть дом, мы подсняли его на лето, и из него виден весь мир, дом стоит на холмах в Беркли, его владельцы, сказала Бет, скандинавы, и похоже, что деньги у них водятся, потому что дом стоит высоко, он весь из окон, света и веранд, и оттуда, сверху нам видно всё: слева — Окленд, справа Эль-Черрито и Ричмонд, впереди, через Залив, — округ Марин, а под ногами — Беркли, весь под красными крышами и поросший цветной капустой и водосбором, по форме напоминающими ракеты и взрывы; под ногами — всякие людишки с ограниченным кругозором; а нам виден Бэй-бридж, на вид нестойкий, Ричмонд-бридж, низкий и прямой, Золотые Ворота — сооружение из красных зубочисток и тесемок, синева посреди, синева наверху, и сияющие магические кристаллы Земли Пропавших/арктического убежища Супермена[43] — все это Сан-Франциско… а по вечерам этот блядский город превращается в сотни взлетных полос: подмигивает Алкатрас, поток галогена плывет по Бэй-бриджу и стекает с него в обе стороны, цепочки рождественских огней медленно и непреклонно тянутся, а еще, конечно, дирижабли — этим летом в небе очень много дирижаблей — ну и звезды, их видно не так уж много, все-таки мы в городах, однако кое-что есть, может, сотня — а сколько их, в сущности, надо? Из наших окон и с веранды открывается такой вид, словно тебе сделали лоботомию, не имеет смысла уже ни шевелиться, ни думать: все здесь, все под рукой, не надо даже поворачивать голову. Утром светло, как на аудиодорожке кинопленки, и мы завтракаем на веранде, потом мы там обедаем, и ужинаем там же, мы там читаем, играем в карты, и все это на одном фоне, словно с почтовой открытки, с маленькими человеческими фигурками, вида открывается слишком много, чтобы он казался настоящим, но опять-таки, опять-таки всё уже и так не очень реально, никогда не забывать об этом, конечно, конечно. (А может, наоборот? Может, оно только реальнее? Ага.) За нашим домом, не очень далеко, раскинулся Тилден-парк — бескрайние просторы озер, деревьев и холмов, мохеровых холмов с заплатками кустарников, так что получается так: мохер, еще мохер, еще мохер, потом темно-зеленая подмышка, потом еще очень много мохеровых холмов, которые тянутся в бесконечность, похожие на спящих львов, и их много, очень много… Если же едешь на велосипеде, стартуя с «Точки Вдохновения»[44], жмешь на педали против ветра на пути туда и под ветер на обратном пути, эти холмы тянутся до самого Ричмонда, на много миль отсюда, а там — заводы, электростанции и огромные резервуары, содержимое которых может отнять жизнь, а может подарить ее, и велосипедный маршрут доходит аж до туда, и всю дорогу слева с него виден Залив, а справа — холмы, холмы, холмы, до самой Маунт-Дьябло, она из них самая большая, королева мохеровых холмов, двадцать миль к востоку, а может, к северо-востоку, без разницы. Параллельно и перпендикулярно дорогам — деревянные и проволочные ограды, за ними пасутся коровы, реже овцы, и это все — в нескольких минутах, все вот это, от нашего дома, за которым есть даже пешеходная тропа, она доходит — или чуть-чуть не доходит — до огромной скалы, Гротто-Рок, а торчит она примерно в двадцати футах от нашей задней веранды, и когда мы с Тофом иногда завтракаем на крылечке, когда солнце сходит с ума от радости за нас, улыбается и плачет слезами счастья, неожиданно могут появиться пешие туристы, мужчины и женщины — это всегда парочки, на них шорты цвета хаки, и коричневые ботинки и бейсболки задом наперед; они показываются у подножия скалы, потом возникают на ее вершине, а потом, придерживая большими пальцами ремни рюкзаков, вырастают перед нами, на уровне наших глаз, а мы сидим и завтракаем на веранде из красного дерева, всего в двадцати футах от них.
— Эй! — говорим мы с Тофом, сдержанно им помахивая.
— Эй, — отвечают они, удивляясь, что увидели нас с ним на уровне глаз.
Это славное такое мгновение. Затем повисает неловкость, ведь они добрались до вершины, конечной точки своего похода, и теперь желают только одного — присесть и полюбоваться пейзажем, но они уже не могут выкинуть из головы двух человек, невероятно красивых, — нас с Тофом, — которые сидят в двадцати футах от них и едят «яблочные джеки» прямо из коробки.
Мы проезжаем мимо Хаф-мун-бэя, мимо Пасифики и Си-сайда, слева от нас кондоминиумы, справа — сёрферы, а океан взрывается розовым. Мы проезжаем мимо рукоплещущих эвкалиптов и приветливо машущих сосен, встречные машины яростно сверкают на солнце, нам кажется, что они гонят прямо на нас, и я пытаюсь сквозь лобовые стекла вглядеться в лица тех, кто на нас бросается, найти в них знак, уловить сочувствие и веру — и нахожу в них веру, и они проезжают мимо. Наша машина громко ревет, а я включаю радио, потому что могу. Я барабаню по рулю ладонями, а потом кулаками, потому что могу. Тоф смотрит на меня. Я сурово киваю. В этом мире, в нашем новом мире будет рок. Мы отдадим дань уважения таким музыкантам, как «Джорни», тем более если это «Двойной по вторникам»[45], а это неизбежно означает, что одной из песен будет: