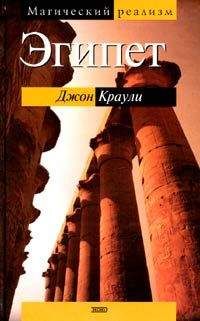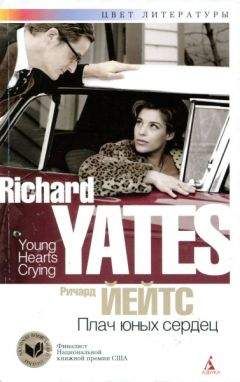Так цвета чисел становились помимо его воли цветами событий — красками комнат, в которых подписывались договоры и слагались мечи, цветами придворных костюмов и экипажей, людских толп, безоружных и бряцающих оружием, самого воздуха, которым они дышали, — каждое столетие, каждый десяток лет в пределах этого столетия, и каждый год в отдельности расцветали у него в голове: как листают перед глазами многокрасочный воскресный комикс. Как музыкант-виртуоз, способный подобрать мелодию на самом дрянном пианино, Пирс мог упорядочить любые попадавшиеся ему разрозненные факты, даты сражений, изобретений, открытий — все, что он собирал из взрослых разговоров, рекламных объявлений, школьных учебников, альманахов, — в таблицу, которая отныне всегда была при нем, и ее нужно было только заполнить.
У единицы не было собственного цвета, она сливалась с фоном. Двойка была густо-зеленой, с шелковистым отливом. Тройка — геральдический красный, а четверка — защитного цвета. Пятерка — золотая, шестерка — белая, семерка — фарфорово-синего цвета, а восьмерка — черная, как старомодный вечерний костюм. Девятка была неяркой, бежевой. Ноль был тоже бесцветным, но пустота, которую он давал, была темной, тогда как единица зияла светлым пробелом. Первое число после единички в датах второго тысячелетия нашей эры определяло цвет века, а следующее — особый цвет года. Последняя цифра завершала отделку, проглядывая там и сям в рисунке гобелена. Вот почему некоторые знаменитые события запечатлелись в его памяти лучше других; 1066 год был не особенно зрелищным, а вот 1215-й, когда лорды в зеленых шелковых плащах с золотыми цепями во главе с коронованным золотой короной королем опустились на зеленую траву лужайки, представлял собой незабываемую сцену. Однако 1235 год, когда, насколько Пирсу было известно, ничего примечательного не произошло, был еще более красочным, как и 1253-й, хотя то был уже совсем другой год.
Века в его сознании, как огромные холсты несхожих меж собою мастеров, пользовавшихся различными палитрами, висели порознь, и перепутать их было невозможно — вот только датированы они были неправильно, а может, Пирс каждый раз забывал, что к картине, которую он разглядывает, относится та табличка, что справа, а не та, что слева. Потому тринадцатый век был красным только в такой вот нумерации (13-й); а пятнадцатому соответствовало не кованое золото 1500 — 1599-х, а серая холстина 1400 — 1499-х. Так что по собственным своим причинам он иногда совершал присущую всем школьникам ошибку — неправильно называл века, и даже в зрелые годы, произнося «восемнадцатый век», он не мог избавиться от ощущения, что этот термин относится лишь к концу столетия, когда голубые шелковые сюртуки и белые парики, скажем, 1776-го уходили, уступая место гладким цилиндрам и черным шерстяным костюмам 1800-х.
Естественно, он пришел к пониманию того, что деление прошлого на века искусственно, что даже века, которые считались сменяющимися на рубеже столетий, на деле подвержены силам куда более могущественным, чем эта бог весть на чем основанная, да к тому же еще и неточная нумерация. Но важнее всего в овладении историей (в отличие от понимания ее) было иметь четкую гипотезу, общую картину, подробный отчет о происходящем. Повесть, эпизоды которой вытекали один из другого, отделяясь притом друг от друга четко, как главы: темно-золотое столетие, начинавшееся с тысяча пятисотого, переходило в мраморные тысяча шестисотые с их рационализмом и классицизмом, а потом шли тысяча семисотые, голубые, как веджвудский фарфор, douceur de vivre[33], чистое небо; за ними тысяча восьмисотые, черные от тяжкого труда и набожности, черные как сажа, как тогдашние чернила, и, наконец, нынешний век, опаленный как хаки, появившийся из кладки коричневых яиц (1900) — как раз ко времени. Цветовая схема ни в коей мере не застила глаза Пирсу, его не оставляло ощущение беспорядочности разнородных человеческих действий, разноцветных и бесцветных, не укладывающихся ни в один из ящичков, ни в один из веков, его система была лишь способом хранения — и он не изобретал ее, она пришла сама собой, его умение, его дар.
Дар можно растратить по мелочам. Юные дарования, устав или осатанев от музыки, забрасывают скрипки. Пирс, исполненный знаний и надежд на будущее, окончил Сент-Гвинефорт, школу в Кентукки, отправился на Север, в престижный, с прищуром древних бойниц, Ноут — учиться у Фрэнка Уокера Барра, чью книгу он впервые прочел не то в одиннадцать, не то в двенадцать лет (кажется, «Плоть Времен», а может, «Игры и тираны») и которому суждено было стать последним в чреде отцов-наставников, которых Пирс чтил, чье дружеское расположение его смущало, чьих взглядов он старался избегать. Он ударился в эстетство, перекинулся на эпоху Ренессанса, потерял целый семестр на первом курсе из-за романтической истории (роковая любовь, побег на побережье, автобус-экспресс «Грейхаунд», отказ, разбитое сердце) и, несмотря на то что вернулся отрезвленным, так до конца и не смог войти в рабочую колею.
Ему казалось, призвание ушло (он даже испытывал по этому поводу некое извращенное удовольствие, детище-то уродилось прыщавым и толстым), но оказалось, что в те времена и без призвания околачиваться в Ноуте было совсем не трудно: делать практически ничего не нужно, и живешь в собственное удовольствие, совсем как взрослый. Многие из его однокурсников, как зачисленных в колледж, так и не совсем зачисленных, жили точно так же. Чем-то вроде оправдания Пирс считал, что принадлежит к промежуточному поколению, родившемуся слишком рано или слишком поздно, потому все время и попадает между двумя стульями. Отчего-то ему казалось, что в начале 1942 года было зачато не так уж и много детей. Потенциальные отцы были по большей части призваны в армию, а на развод остались только совсем уже никуда не годные (как отец Пирса). Он был слишком молод, чтобы стать битником, а потом вдруг оказалось, что он уже слишком стар — и слишком строго воспитан, — чтобы стать хиппи. Он вынырнул в сознательную жизнь в тот момент, когда мир застыл в состоянии неустойчивого равновесия между экзистенцией и общественной пользой, между психоанализом и психоделикой, и подобно многим чутким душам, лишенным внутренней защиты и структуры и не успевшим отрастить себе понятийный аппарат, он напялил на себя костюмчик этакого пуританствующего денди, составленный по большей части из предрасположенности к сплину и черных тряпок неопределенного покроя. В этом нелепом облачении он и застыл посреди мира, который с удовольствием раскритиковал бы на все корки, только не знал как; а пока просто ждал, что с ним будет дальше.
Честно говоря, даже и эта немудреная поза как-то не слишком задалась. Денди должен быть невысоким и складным. Пирс таким не был. Он рос большим неуклюжим ребенком, подростковая неловкость всегда выходила у него на грани фола; к шестнадцати годам он вымахал до шести футов, огромное асимметричное лицо, прямо как у Эйба Линкольна, густые всклокоченные волосы, руки костлявые и длинные, как у обезьяны, неловкой и нелепой обезьяны. Там, внутри этой махины, жил кто-то маленький, пожалуй, даже хрупкий, и его ужасно смущала форма Пирсовых ушей и густой курчавый коврик у Пирса на труди; и хотя (опять же как у Линкольна) недостатки Пирса к тридцати годам обещали оформиться в небезынтересные свойства личности и плоти и уже маячили в перспективе суровое своеобразие зрелости и даже некая грубоватая красота, вот только Пирс никак не мог забыть, с каким искренним отвращением относился к нему живший в его душе человечек. Joli laid[34], называла его мать, а дядюшка Сэм Олигрант (на которого Пирс был похож больше, чем на кого-то другого из родственников) переводил это как «прелесть, что за урод», и Пирс соглашался. Маленько великоват и прелесть что за урод.
В аспирантуру в Ноуте он поступил главным образом для того, чтобы закосить от армии, и старательно обходил те научные высоты, что требовали наибольшего труда при восхождении. Позже, готовясь одолеть очередной стандартный том, как перевал через засушливое плато, Пирс печально вспоминал о том, какой дошлый он был когда-то в Ноуте, как ловко уходил от такого рода работы и как умел подлежать в окружающих высокое мнение о своих способностях, ничем реальным это мнение не подкрепляя; ведь его и в самом деле считали докой в тех областях знания, в которые он успел разве что походя сунуть нос. Фрэнк Барр надеялся, что Пирс будет делать диссертацию под его научным руководством и, может быть, даже возьмет ту тему, которую сам Барр хотел исследовать, но все никак не находил возможности, — он предложил написать о распространении несторианской ветви христианства в средние века в Индию, Китай и в Черную Африку: Марко Поло обнаружил сохранившиеся несторианские общины в Китае, а в Судане миссионеры еще в девятнадцатом веке с изумлением слушали мифы об Иссе, то бишь Иисусе. Во что они превратили к тому времени историю Христа, столько веков проведя в изоляции от Рима и от Византии? Просто поразительно. Но Пирс, хотя и был заинтригован (Барр мог заинтриговать кого угодно), испугался огромных масштабов предстоящей работы. Первоисточники на шести или восьми языках, работы непочатый край, экспедиции в пробковом шлеме на «лендровере» — вот что его ждало. Он так и остался при своем Ренессансе, хотя с тех пор между ними с Барром пробежала кошка, почти невидимая, но все же черная. Он обнаружил в библиотеке Ноута подборку конфессиональной литературы елизаветинских времен («Семь Стенаний Совести, Скорбящей о Согрешениях») и набросал короткую, элегантную диссертацию по этим книгам и тому, как они перекликаются с некоторыми шекспировскими темами — в особенности в «Мере за меру». Он написал план-проект и, провозгласив научный аскетизм добродетелью («Сознательно ограничив себя этим, на первый взгляд довольно-таки узким, направлением исследования», и т. д. и т. п., как будто с немалым трудом пришел к этому решению), заручился согласием на руководство со стороны благостного старого пердуна с английского отделения. А еще он купил попугая и потратил на обучение птицы человеческой речи (De mortuis nil nisi bunkum — вот что он в итоге от нее добился) больше времени, чем на диссертацию.