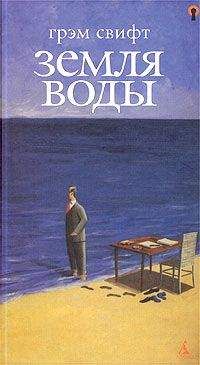В 1818-м – когда беспорядки кончились, но трудностей меньше не стало – Томас переделывает первый этаж своего дома в Кесслинге под солодовенную контору и совершает второй в своей жизни переезд, из Кесслинга в Гилдси, в новую великолепную резиденцию, в Кейбл-хаус (который тоже до сих пор стоит), к северу от рыночной площади, в двух шагах от пивоварни, с видом на узкую улочку, которая носила тогда название Водной улицы, да и теперь называется так же, хотя давно уже стала широкой и шумной, с «Бутсом» и «Вулвортсом». [14] Пивоварня расширяется; с вывески исчезает имя Тернбулл, которое, в дань уважению, и так задержалось там на три лишних года. Горожане пробуют на вкус, впервые под истинным именем, неподражаемый букет эля «Аткинсон», сваренного из Аткинсонова солода, из Аткинсонова ячменя. Держатели городских заведений, с названиями, в которых отразился окружающий город водный мир – «Лебедь», «Пес и утка», «Веселый шкипер», «Угорь и щука», – не нарадуются на жаждущих, хотя и небогатых посетителей.
Интересно, они и в самом деле могут этак утолить свои печали – кружкой или двумя золотисто-коричневой Радости? А старый Том – он может?
Потому что с Томасом, и по сию пору крепким шестидесятитрехлетним здоровяком, что-то происходит. Он превращается в памятник. Человек Великих Начинаний, Человек Больших и Славных Дел, Человек и Гражданин. На портрете, написанном с него в тот самый год, мы видим волевое лицо, лицо человека с характером, но ни лучистых отцовских глаз, ни мягкого изгиба отцова рта здесь нет, да и к обоим его сыновьям, Джорджу и Элфреду, дедовские черты не привились. В Томасе взрастает отчужденность. У него уже не получается стоять на берегу новенькой дрены, похлопывая по плечу человека, который помог ему эту дрену выкопать. Те самые работяги, которые трудились когда-то с ним бок о бок – а среди них, наверное, были и Крики, – теперь снимают шляпы, преклоняются перед ним, чтут его едва ли не как бога. А когда он нарочно, чтобы показать, что он все тот же старый Том Аткинсон, заходит в распивочную залу «Лебедя» или «Шкипера» и ставит всем присутствующим по пинте эля, под веселыми этими сводами вмиг воцаряется молчание, подобное благоговейной церковной тишине.
Сам того не желая – и не властный помешать, – он чувствует, как его обмерили, обшили и втиснули в жесткий и громоздкий, в накрахмаленный костюм легенды. Как он сделал из болота реку Лим. Как напоил все Фены норфолкским славным пивом. Как он кормил у водоема страждущих, как стал надежей и опорой… И в глубине души он думает, наверное, о том, насколько же все было ярче и прекраснее в тот день, в отцовском доме в Уэксингеме, где легкий летний ветерок приносил в окошко с поля шорох спеющего ячменя, а отец произнес волшебное слово: Дренаж.
Но даже и с этим он в состоянии справиться, даже и здесь он уверен в себе – потому что, видит Бог, Томас Аткинсон никогда не верил в рай земной, – если бы не жена. В 1819-м ей тридцать семь. Игривая, ребяческая повадка, которая когда-то глянулась ему (и совпала с деловыми интересами), переросла с годами в нечто куда более зрелое и мягкое. Миссис Аткинсон красива; такая красота, с точки зрения мистера Аткинсона, подошла бы актрисе – и его жена словно оказывается вдруг на ярко освещенной сцене, а он, со всеми своими делами и почетными титулами, смотрит на нее издалека, из темноты и снизу. Ему представляется, что вот, он многого достиг и только сейчас заметил с собою рядом это удивительное существо, с которым он когда-то, в незапамятные времена, словно бы и между делом, совершал ритуал продолжения рода.
Короче говоря, миссис Аткинсон вошла в пору расцвета; а муж ее стар и любит ее до безумия – и ревнует.
На шестьдесят пятом году жизни подагра накрепко усаживает Томаса в покойное кресло и делает его – противу всякого обыкновения – вздорным. Он больше не может сопровождать жену в привычных прогулках, поездках и визитах. Из окошка дома на Рыночной улице он видит, как она садится в поджидающие ее кареты и уносится прочь, и разложенные перед ним бумаги, касательные до планов модернизации и расширения пивоварни, дальнейшего строительства верфей на Узе и доставки Аткинсонова эля рекой ли, сушей на новые, доселе не освоенные рынки сбыта, не в состоянии отвлечь его от мыслей о жене, и он возвращается к ним снова и снова, пока она не вернется домой.
Под подозрением у него не один человек и не два. Собственный управляющий на пивоварне; хлеботорговец из Кингз Линна; кое-кто из членов Комиссии по дренажу, которые помоложе; и тот самый доктор, которого вызывают лечить его подагру. И никто из них не может ему объяснить, из страха возвести напраслину на Достойнейшего из Мужей города Гилдси – ведь он не высказывает своих подозрений открыто, – что миссис Аткинсон невинна, совершенно невинна, что она сама верность и преданность мужу, которого она – и все об этом знают – просто-напросто боготворит.
Январским вечером 1820 года происходит несчастье – свидетельства очевидцев до нас не дошли, однако разного рода анналы города Гилдси буквально пестрят бесчисленными версиями врезавшегося в память горожан события. Ближе к ночи Сейра возвращается домой после вечера, проведенного, так уж вышло, в невиннейшей компании приходского священника из церкви Св. Гуннхильды, его милейшей супруги и нескольких собравшихся по случаю гостей, к Томасу, которого в тот день подагра донимает пуще прежнего. Что именно меж ними происходит, остается тайной, известно только, что – если верить тому, что говорили слуги, которые, естественно, подслушивали, и тому, в чем позже покаялся сам Аткинсон, – сначала он просто ворчит и придирается к ней, потом становится откровенно груб, приходит в ярость и, дав выход вспышке нелепейших обвинений и оскорблений в ее адрес, поднимается на ноги и с размаху бьет ее по лицу.
Вне всякого сомнения, даже если бы эта дикая сцена и не привела к печальным последствиям, Томас раскаивался бы в совершенном до конца своих дней. Но так уж вышло, что он действительно устроил себе повод для пожизненного покаяния. Потому что Сейра не только упала, сбитая с ног ударом разъяренного мужа, но и стукнулась в падении головой об угол письменного орехового дерева стола с такою силой, что, хотя через несколько часов она и пришла в чувство, сознание к ней так никогда и не вернулось.
Чем вызвана эта страшная травма – ударом ли об угол стола, или первым ударом, или ни тем ни другим, а чисто духовным шоком при виде столь внезапной и ничем не спровоцированной вспышки мужниной ярости, – и не являлся ли, как некоторые утверждали впоследствии, удар об угол стола всего лишь выдумкой, чтобы скрыть истинный масштаб обуявшего Томаса бешенства, – не суть важно. Над бездыханным телом, в порыве раскаяния, Томас призывает сыновей и голосом, которого нельзя было не услышать даже в самом отдаленном закоулке дома, объявляет: «Я убил жену! Я убил мою бедную Сейру!» Ужас. Замешательство. Целый ворох Здесь и Сейчас. Сыновья, склонные попервоначалу, увидев, как обстоят дела, поверить безжалостному отцовскому самооговору, посылают за доктором – все тем же доктором, чьи невинные знаки внимания внесли свой вклад в разыгравшуюся трагедию и которому приходится не только приводить в чувство лежащую трупом жену, но и отпаивать мужа обильными дозами лауданума.
В ту январскую ночь 1820 года подагра навсегда оставила Томаса Аткинсона в покое. По крайней мере, он больше ни разу на нее не жаловался. Его ждала куда более злая пытка. Весь следующий день, и дальше, за полночь, ему не придется сомкнуть глаз у ее изголовья, и молиться, молиться, чтобы эти прекрасные глаза вновь открылись, чтобы уста, милые ее уста разомкнулись хоть ненадолго. Он, должно быть, испытал необычайный прилив облегчения и радости, увидев, как губы и впрямь разомкнулись, затрепетали – только для того, чтобы впасть в отчаяние дважды большее, когда стало ясно, что глаза, пусть они и открылись, не видят его, а если и видят, то не узнают. И если губы шевелятся, они больше никогда не скажут Томасу Аткинсону ни единого слова.
Сейре Аткинсон тридцать семь лет. Судьба распорядилась, а судьбе нет дела до ударов но голове, что Сейра проживет долго. И успокоится она только лишь на девяносто третьем году жизни. Пятьдесят четыре года она просидит в синем бархатном кресле, в комнате наверху (нет, не в бывшей их с мужем спальне, а в комнате, которая станет называться просто комнатой Хозяйки Сейры), глядя то прямо перед собой, вдоль суматошной, с каждым годом все более оживленной Водной улицы на Узу, то влево, где над городскими крышами поднимется в 1849 году высокая труба Нового Пивоваренного, расположившегося по-хозяйски рядом с верфью.
Вот только – видит ли она все это. Она застынет в странной позе человека, который наблюдает, пристально и неотрывно, – Ничто. Она не утратит былой красоты. Ее прямая, с легким наклоном вперед поза будет исполнена таинственного очарования. Даже и в старости, когда усохнет плоть, твердый костяк устоит (поскольку именно в этом возрасте, по настоянию сыновей, с нее напишут портрет, в черном платье с бриллиантовым колье, – и какая же она была прекрасная модель!), и она сохранит печально-властную манеру княгини в изгнании.