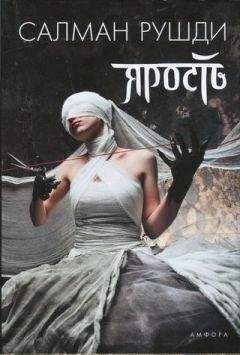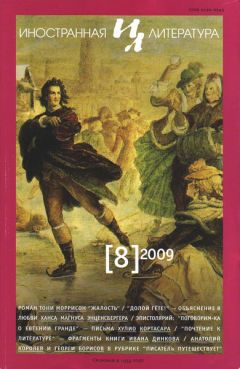Перебираться с места на место. Уходить. Бежать. Прятаться. Красть и снова перебираться с места на место. Лишь однажды ему удалось задержаться в одном городе – с одной женщиной, точнее, с одной семьей – более чем на несколько месяцев. Это было единственный раз – с той ткачихой в Делавэре, самом отвратительном месте для негров, с его точки зрения, помимо округа Пуласки в Кентукки и, конечно, тюрьмы в Джорджии.
Ото всех этих негров Возлюбленная очень отличалась. Ее сияние, ее неношеные башмаки… Все это тревожило Поля Ди. Может быть, потому, что сама она не тревожилась нисколько и совершенно не обращала на него внимания. А может, потому, что она словно подгадала: объявилась здесь в тот самый день, когда они с Сэти уладили все споры, вышли на люди и имели полное право как следует повеселиться – как настоящая семья. Пожалуй, и с Денвер тогда что-то начало меняться к лучшему. Сэти смеялась; ему пообещали постоянную работу, дом номер 124 был очищен от духов. Жизнь начинала входить в нормальную колею. И на тебе! Какая-то водохлебка вдруг является, заболевает, остается в их доме, поправляется – и отсюда ни на шаг!
Ему очень хотелось, чтобы она ушла, но Сэти позволила ей остаться, и он не мог выгнать ее – ведь он в этом доме хозяином не был. Одно дело – прогнать привидение, и совсем другое – выбросить на улицу беспомощную цветную девчонку, да еще в таких местах, где хозяйничает Ку-клукс-клан – этот дракон, жаждущий черной крови, который жить без нее не может и переплывает Огайо когда ему вздумается.
Продолжая сидеть за столом и жевать прутик, Поль Ди решил, что надо как– то эту девицу пристроить. Посоветоваться с другими неграми и найти ей подходящее место в городе.
И стоило этой мысли прийти ему в голову, как Бел подавилась изюминой, которую долго выковыривала из хлебного пудинга. Она свалилась со стула, упала на спину и стала биться на полу, держась за горло. Сэти приподнимала ее, хлопала по спине, а Денвер все пыталась оторвать ее руки от горла. Стоя на четвереньках, она выблевала только что съеденный ужин и, задыхаясь, хватала ртом воздух.
Наконец она успокоилась, и Денвер принялась убирать за ней.
– Пойду посплю, – сказала Бел.
– Пойдем ко мне в комнату, – предложила Денвер. – Я за тобой смогу присмотреть.
Лучшего момента и выбрать было нельзя. Денвер уже извелась вся, придумывая, как бы залучить Бел к себе в комнату. Ей было невыносимо спать на втором этаже и не знать, как она там, внизу. Не заболела ли? А вдруг уснула и не проснулась? Или (о, господи, только не это!) вдруг встала среди ночи и побрела прочь со двора точно так же, как явилась сюда? А так им было бы проще и разговаривать друг с другом: по ночам, когда Сэти и Поль Ди уже заснут, или днем, пока они еще не вернулись с работы. Упоительные, безумные разговоры, полные недоговоренностей, странных мечтаний и темных намеков – насколько же они увлекательнее ясности.
Когда девушки ушли, Сэти начала убирать со стола. Она составила грязные тарелки стопкой возле таза с водой и спросила:
– Чего это ты на нее так взъелся?
Поль Ди нахмурился, но ничего не ответил.
– Мы с тобой уже один раз здорово поцапались из-за Денвер. Неужели из-за Бел тоже будем ссориться? – спросила она снова.
– Я просто никак не пойму, в чем тут дело. Ясно, почему она так цепляется за тебя, но я никак не могу уразуметь, чего ты-то за нее цепляешься.
Сэти перестала мыть посуду и посмотрела на него:
– А тебе не все равно? Кормить ее мне не трудно. Чуть больше прихватываю с собой из ресторана – и все дела. И потом, они ладят с Денвер. Ты это прекрасно знаешь, и я знаю, что ты это прекрасно знаешь, так что ж ты зубами-то скрежещешь?
– Сам не понимаю. Просто чувствую, что-то тут не то.
– Ну и чувствуй себе на здоровье. Чувствуй, каково это, иметь место для ночлега и никто от тебя не требует заслужить его. Почувствуй, каково это. И если этого тебе мало, то попробуй представить себе, каково это – цветной женщине скитаться одной по дорогам, где любая тварь на тебя наброситься может. Попробуй – представь себе такое!
– Я-то все это куда как хорошо знаю, Сэти. Я ведь не вчера родился и в жизни ни с одной женщиной подлости себе не позволил.
– Ну, значит, ты один такой замечательный, – откликнулась Сэти.
– А не двое?
– Нет. Не двое.
– Разве Халле тебя когда обижал? Ведь он всегда на твоей стороне был. И никогда тебя в беде не бросал.
– Да? А кого же тогда он бросил, если не меня?
– Не знаю, да только тебя он не бросал. Это точно.
– Ну так он еще хуже поступил: бросил своих детей!
– Этого ты знать не можешь.
– Он же не пришел! Его же не было там, где мы условились!
– Он там был.
– Так отчего ж не показался? Почему я из-за него должна была впопыхах отправлять детей одних, а потом еще и его разыскивать?
– Он не мог с чердака слезть.
– С чердака? С какого чердака? – У тебя над головой.
Медленно, медленно, используя каждую секунду отведенного ей времени, Сэти придвинулась к столу.
– Он все видел?
– Видел.
– Это он тебе рассказал?
– Это ты мне рассказала.
– Как это?
– В тот самый день, когда я объявился в вашем доме. Ты сказала, что они отняли у тебя молоко. А я-то никак не мог в толк взять, отчего он умом тронулся! Из-за этого, вот из-за чего. Я знал только, что он сломался. Все эти годы, когда он и по субботам, и по воскресеньям работал, и по ночам порой тоже, ему нипочем были. А вот из-за того, что он тогда с чердака увидел – что бы это ни было, – сломался, как хворостинка.
– Значит, он видел? – Сэти крепко обхватила себя руками, вцепилась пальцами в локти, словно боялась, что улетит.
– Видел. Не мог не видеть.
– Он видел, как те парни делали со мной такое, и позволил им жить дальше? Он видел? Видел? Видел?
– Эй, эй! Послушай. Дай-ка я тебе кое-что расскажу. Человек, черт побери, не топор безмозглый, которым только и делают, что целый день дрова рубят да щепу колют. То, что он увидел, его доконало. И отрубить он этого не мог, потому что оно у него внутри засело.
Сэти металась по комнате – взад-вперед, взад-вперед, – под светом лампы.
– Связной тогда сказал: к воскресенью. Они отняли у меня молоко, и он это видел и даже вниз не слез? Наступило воскресенье, но он не пришел! Наступил понедельник, а Халле нет как нет. Я думала сперва, он умер и потому не пришел; потом – что они поймали его и не выпускают. Потом – нет, он не умер, потому что, если б он умер, я бы об этом узнала. Ну а потом сюда через столько лет явился ты и тоже ничего не сказал мне, умер он или нет, потому что тоже ничего не знал. И я подумала: что ж, наверно, он просто нашел себе что-нибудь другое, полегче, без нас. И потом, если б он оказался где-нибудь неподалеку, то непременно зашел бы хоть к Бэби Сагз, если уж не ко мне. Но я и предположить не могла, что он все видел.
– Разве теперь это имеет значение?
– Если он жив и видел это, он никогда больше не ступит на мой порог. Кто угодно, только не Халле.
– Это его доконало, Сэти. – Поль Ди поднял на нее глаза и вздохнул. – Пожалуй, я скажу тебе все. В последний раз, когда я его видел, он сидел возле маслобойки. И размазывал по лицу масло.
Ничего не произошло, и она была благодарна за это. Обычно она могла явственно увидеть все то, о чем слышала. Но увидеть то, о чем сказал Поль Ди, она не могла. Голова была пуста. Осторожно, очень осторожно она задала более понятный вопрос:
– И что он сказал?
– Ничего.
– Ни слова?
– Ни слова.
– А ты с ним заговаривал? Сказал ему что-нибудь? Хоть что-нибудь!
– Я не мог, Сэти. Я просто… не мог.
– Почему же!
– У меня во рту железный мундштук был.
Сэти вышла на веранду и присела на ступеньки крыльца. День сменился синими сумерками, солнце так и не выглянуло, но еще видны были черные тени деревьев на лугу перед домом. Сэти мотала головой из стороны в сторону, покоряясь своему непокорному разуму. Почему ее разум ничего не отвергает? Почему он поглощает все – нищету, сожаления, чужую подлость? Как прожорливый ребенок, он хватает и сует в рот все, что попадется. Ну хоть один-то разок может он сказать: нет, спасибо, больше не хочу? Я сыт и не могу проглотить ни кусочка? Я сыта, черт меня побери! Хватит с меня двух мальчишек с хищными острыми зубами, один сосет мою грудь, другой держит, не дает вырваться. Хватит с меня. Хватит с меня этого книгочея учителя, который все следит за нами, все что-то записывает. Я всем этим сыта по горло, черт меня побери! И я не хочу возвращаться назад за добавкой. А тут еще выясняется, что муж мой спрятался на чердаке прямо над моей головой, там, где, как он думал, никто его искать не станет, – и видел оттуда все то, что я ни видеть, ни вспоминать не хочу, хоть глаза закрывай. И не остановил их – смотрел и не вмешивался. Но мой прожорливый ум говорит: ой, вот спасибо, я с удовольствием съем еще! Ну хорошо, вот тебе еще. Раз уж не могла остановиться, этому теперь не будет конца. И вот я слушаю, как муж мой сидел на корточках у маслобойки и размазывал по лицу масло и сыворотку, потому что из головы у него не шло то молоко, которое они отняли у меня. Что же касается моего мужа, тут и спрашивать нечего: если уж он так сломался тогда, то теперь, конечно же, мертв. И раз Поль Ди видел его, но не мог ни спасти, ни утешить, потому что в рот ему вставили железный мундштук, то было и еще кое-что, о чем Поль Ди может рассказать мне, и мой ум, разумеется, захочет это узнать и ни за что не скажет: нет, спасибо, больше мне не надо. А я не желаю об этом знать, и я не обязана это помнить! У меня есть другие заботы: нужно, например, позаботиться о завтрашнем дне, о Денвер, о Бел, о собственной старости и болезнях, не говоря уж о любви.