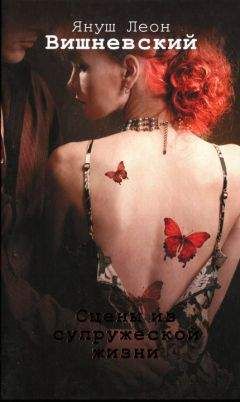— Ты не узнала, что это? — спросил он оживленно. — Это Мендельсон-Бартольди, скрипичный концерт ми-минор, опус 64. Это тема моего диплома в Бреслау. Тогда еще можно было им заниматься, но уже нельзя было исполнять его музыку. Во всяком случае, публично. За еврейское происхождение коричневые вычеркнули его из списка немецких композиторов и дискредитировали как человека. В 1934-м, на концерте для молодежи в каком-то городке под Берлином, дирижер местного оркестра исполнил мендельсоновский «Сон в летнюю ночь», и его на следующий же день уволили. Обвинили в преступном намерении «отравить чистые души немецкой молодежи». А когда английский оркестр, посетивший Лейпциг в 1936-м, выразил желание возложить цветы к памятнику Мендельсону, этот памятник чудесным образом исчез накануне ночью. Хотя Мендельсон был евреем только наполовину, по отцу.
— Послушай меня внимательно, — шептала она ему на ухо, поглаживая по голове, — не умничай, я понятия не имею о том, что такое ми-минор, и мне плевать на какой-то опус. Мендельсон, если это и правда он, ассоциируется у меня исключительно со свадьбой. И это все. То есть почти все. Вчера, когда ты играл его музыку, я впала в нирвану, побывала на небесах и увидела там прекрасные картины. На одной из них был ты. Здесь, в нашем доме, то есть в твоем склепе. Ты был на небе и играл там свой ми-минор с опусом, а из глазниц черепов текли слезы. Такое человек может увидеть только раз в жизни. Но я хочу это повторить...
— Что повторить?
— Как что?! Эту картину. Это мгновение...
— О чем ты говоришь?
— Ты сыграешь это сейчас, еще раз? Встань туда, где стоял вчера!
— Марта, что ты имеешь в виду? — не понял он.
— Так ты сыграешь или нет?! — крикнула она.
— Ну, хорошо. Сыграю. Я могу играть это бесконечно. Но почему именно сейчас?
— Не спрашивай меня, встань туда, туда, где стоял вчера, и играй. Там сейчас прекрасное освещение. Такие замечательные, насыщенные полутона. Если бы у меня была сигарета, я добавила бы к ним тонкие струйки дыма. Боже, как мне хочется курить!..
Он так и не понял, что она имеет в виду, но не стал расспрашивать. Послушно взял скрипку и начал играть. Она опрометью кинулась к чемодану и вытащила фотоаппарат. Встала за один из гробов, установила камеру на крышку, настроила диафрагму. Ей не хотелось держать аппарат в руках, потому что тогда потребовалось бы большее время выдержки. Она слушала. Сегодня она не чувствовала торжественного упоения. Сейчас это была просто музыка. Прекрасная, необыкновенная, но уже без того волшебства, что несколько часов назад. Ночью музыка звучала совсем иначе. Она вспомнила его слова. Нужно жить здесь, сейчас, в эту минуту. Каждое мгновение неповторимо. Вот и она задерживает мгновения. Она нажала на кнопку. Еще три кадра...
Он закончил играть. Отложил скрипку в сторону и заботливо прикрыл куском картона. Она спрятала фотоаппарат в чемодан.
— Насыщенные полутона, конечно. Теперь я понял. Ты покажешь мне когда-нибудь свои фотографии? — спросил он. — Я очень хочу посмотреть на мир твоими глазами.
— Посмотришь. Я обещаю. А теперь пойдем отсюда...
Они подошли к пробоине в стене, что служила входом. Он заполз в узкий лаз и стал карабкаться вверх. Она внимательно наблюдала за тем, как он это делает. Оказавшись на поверхности, он сбросил ей толстый канат с широким узлом на конце. Она крепко держалась за канат и, упираясь ступнями в стены лаза, метр за метром поднималась вверх. Когда она высунула голову на поверхность, яркий свет ослепил ее. Она выпустила из рук канат и чуть не полетела обратно. В последний момент он успел схватить ее за руку и резко выдернул наружу. Она упала. Почувствовала на лице холодный снег. Не открывая глаз, попыталась встать. Вспомнились слова матери: «Надень ему повязку, прежде чем он выйдет наружу. Поняла? Прежде чем он выйдет из клетки! Иначе он ослепнет. Повтори, что ты должна сделать!».
Он помог ей встать. Она осторожно приоткрыла глаза. Он завалил ветками и обломками стены вход в склеп. Тщательно замаскировал его комьями смерзшейся земли. Подал руку, и они пошли вперед. Она не узнавала мест, мимо которых они проходили. Он был прав. Повсюду был лишь пепел, присыпанный снегом.
Они добрались до Ратушной площади. Кройцкирхе сгорела полностью. Санитары в белых халатах с красным крестом на спине и марлевых повязках на лицах вынимали из грузовиков трупы и складывали длинными рядами. К рукам, ногам, шее, а если ничего этого не было, то к тому, что оставалось, прикрепляли желтые картонные бирки с номерами. Вся площадь была покрыта телами. По примыкавшим к ней улицам шли люди, толкая тачки с мертвыми. Клали их рядом с лежавшими на площади и подходили к молодому офицеру в черном мундире с моноклем в глазу, который прохаживался вдоль узкого прохода между рядами метрвых тел. Он снимал с левой руки и выдавал желтые бирки, и люди возвращались к телам, которые только что сложили на площади. Стояла мертвая тишина, никто между собой не разговаривал. Слышны был только скрип тачек и урчание моторов. Никто не плакал. Через минуту стало ясно, почему. Площадь со всех сторон была оцеплена солдатами. Они сообщади всем, что опознание погибших состоится в воскресенье. Сегодня была пятница. Испуганные люди при виде солдат с автоматами покорно соглашались ждать до воскресенья, когда с половины двенадцатого им позволят опознать брата, мать, отца, мужа или детей. Ровно в одиннадцать тридцать, в воскресенье, 18 февраля 1945 года можно будет начать скорбеть. Раньше нельзя.
«Что же такое случилось? — думала она. — По какой причине, когда и что именно должно было произойти, чтобы мой народ, немцы, позволил себя до такой степени подчинить?! Предписаниям, уставам, распоряжениям, определениям, запретам, постановлениям, правилам, рекомендациям и приказам. Что должно было произойти в тысячелетней истории испускающей сейчас дух Германии, чтобы она так властно поработила человеческие души, умы и поступки. Страх? Безграничная лояльность по отношению к единому вождю, без которого немцы как нация не могут обойтись?»
Последнее было похоже на правду. В школе им твердили, что германцы обязаны своим национальным самосознанием, чувством единения сражению с римским легионом в лесу под Тевтобургом, недалеко от сегодняшнего Оснабрюка. Тогда, почти два тысячелетия назад, через девять лет после рождения Христа, настало время Первого рейха. Германцев объединил и повел к славе и успеху первый «непобедимый фюрер» Герман дер Херускер. Под его водительством они продемонстрировали свое мужество, победили и не поддались «губительной заразе римского декадентства». Теперь, почти два тысячелетия спустя, во времена Гитлера история должна была повториться. Но не повторялась, несмотря на то, что римляне во главе с Муссолини стояли плечо к плечу с германцами. Гитлер часто ссылался на миф о Германе, называя его «спасителем германцев» и «первым освободителем немцев». В последнее время, не желая задеть Муссолини, он говорил об этом в более завуалированной форме. Но все же говорил. А если, по политическим причинам, молчал, за него кричал об этом Геббельс.
Может, все дело в маниакальной любви немцев к порядку? А может быть, нет никакой причины? И это просто унаследованный от матери Германии врожденный порок. Как восемь пальцев на руках — вместо десяти.
Невысокий толстый солдат в мундире вермахта приподнял автомат, преграждая ей дорогу.
— Если вы, господин офицер, думаете, что я буду дожидаться воскресенья, чтобы попрощаться со своей матерью, то вы сильно ошибаетесь. У вас есть три варианта. Либо вы меня сейчас расстреляете и положите на этой площади с желтой биркой на руке, либо опустите свою пушку и пропустите меня, либо... — она понизила голос.
— Либо что? — выдавил из себя солдат, опуская автомат.
— Я вам скажу, но только на ухо. Не могли бы вы, господин офицер, приподнять свою замечательную каску? — прошептала она, пытаясь кокетливо улыбнуться.
Солдат обернулся. Офицер с моноклем был довольно далеко. Солдат торопливо снял каску и придвинул ухо к ее губам. Она зашептала что-то, медленно поглаживая его бедро.
— Вечером, здесь? — спросил он. — И ты точно придешь?
— Да, вечером, здесь, — подтвердила она.
— У тебя десять минут. Если этот чернобровый со стекляшкой в глазу спросит, скажешь, санитарка. Тебя прислали из крематория в Толкевице.
Она обернулась на своего спутника. Он смотрел на нее с ужасом. Она подошла к нему.
— Ты простишь меня? Я должна была это сделать. Я наврала, потому что до воскресенья все равно не доживу. Ты простишь меня? — прошептала она и, не дожидаясь ответа, быстро пробежала мимо солдата на площадь.
Она медленно двинулась вдоль ряда мертвых тел. Четыре ряда состояли из трупов детей. Она прошла мимо, стараясь не смотреть. И вдруг столкнулась с офицером с моноклем. Он стоял и курил сигарету.