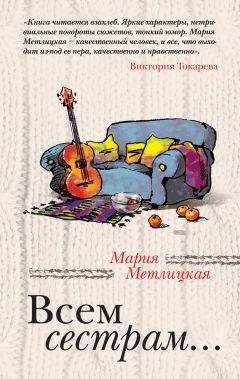Все лето мы живем на даче. Нас привозят в мае, даже если еще не очень тепло и льют дожди. Дети должны дышать воздухом. Это незыблемо.
Наши семьи – соседи по даче. У нас общий забор. Я живу с бабушкой и дедушкой, Катька – тоже. Но по субботам ко мне приезжают родители, папа и мама. К Катьке не приезжает никто. Отца у нее нет – был, да сплыл, говорит Катькина бабушка, а мать «в бегах» – это тоже слова бабушки. Что такое «в бегах», я не очень понимаю, но по обрывкам подслушанных разговоров узнаю, что Катькина мать сбежала с «очередным хахалем». Куда-то далеко, на Север.
Катьку растят дед с бабкой. Живут бедно, что такое две стариковские пенсии? А Катькина мать даже не пишет. «Стерва», – говорит моя бабушка. «Шалава», – добавляет Катькина.
Мы часто зовем Катьку на обед. Ее бабка целый день в огороде «кверху задом», а дед продает на станции огурцы и смородину. Моя бабушка читает книги и вяжет бесконечные свитера, а дед вечерами играет на скрипке – он скрипач и преподаватель в музыкальном училище.
Мы с Катькой висим на заборе и пристаем к прохожим с дурацкими вопросами. Нам очень весело. Мы варим кукольный суп из подорожника и рябины, шьем кукольные чепчики и строим шалаш. У нас прекрасная жизнь.
В субботу мы бежим на большак встречать моих родителей. Я вижу, как Катька грустит и в глазах у нее стоят слезы. Мне ее жалко, и я отдаю ей своего любимого мохнатого одноглазого медведя Мишу, с которым спала с двух лет. Это немного утешает Катьку, а мне до слез жалко Мишу. Я страдаю, и сердце мое рвется от жалости к Катьке и тоске по Мише.
Мы растем – и у нас появляются первые романтические истории. Сначала мы обе дружно влюблены в соседского мальчика Славу. Слава – из профессорской семьи, он умен, красив и прекрасно воспитан. До нас ему нет никакого дела. Мы важно прогуливаемся возле Славиного забора и нарочно громко смеемся – привлекаем к себе внимание. Слава читает на веранде и смотрит на нас как на идиоток. Впрочем, почему как?
Мы бегаем на станцию за мороженым, и я пытаюсь дозвониться маме. Катька отходит от автомата и что-то чертит босоножкой на песке. Я понимаю, что ей позвонить некому, – и мое сердце затопляют нежность и жалость.
Но кончается лето – и мы разъезжаемся по домам. В течение года мы обязательно созваниваемся каждую неделю, а на выходные иногда встречаемся, шляемся по центру, едим мороженое в кафе и, конечно, мечтаем о любви.
Я поступаю в институт – а Катьке не до учебы. У нее умирает дед и совсем слепнет бабка. С утра Катька разносит почту, а вечерами работает натурщицей в «Строгановке». Видимся мы теперь реже. Я явственно чувствую разницу между нами. У меня – ни забот, ни хлопот. Институт, мальчики, подружки. Мне не надо думать о куске хлеба и тарелке супа, о новых туфлях или пальто – на это у меня есть родители. Катька заботится о слепой бабке и сама зарабатывает на жизнь.
Но нет, мы не теряем друг друга. Ближе подруги у меня по-прежнему нет. Просто жизнь немного развела нас – слишком она разная у нас, эта жизнь.
Теперь летом я на даче редкий гость – на каникулах я уезжаю на море, а Катька и вовсе дачу сдала – понятно, им очень нужны деньги.
Однажды Катька приезжает ко мне – и я не узнаю ее. И так тоненькая, она еще больше похудела, глаза горят, смолит одну сигарету за другой. Она очень измученная и нервная. И еще очень голодная.
Пока я грею обед, она съедает кастрюлю холодной гречки, стоящей на окне.
Она торопливо рассказывает, что у нее сумасшедший роман. Абсолютно сумасшедший. Он – скульптор, гений (кто бы сомневался?). Она почти все время проводит у него в мастерской – они просто не могут друг от друга оторваться. Она бы совсем перебралась к нему – но не может бросить бабку. Она рассказывает мне все в деталях и в подробностях, и я смущаюсь – такого опыта у меня еще нет. Что там мои свидания с мальчиками из соседней группы? Она называет его по фамилии, Ганецкий, говорит, что он сказочно красив, талантлив, нежен, без конца лепит ее портреты и называет своей музой.
Ну, в общем, все понятно. Я вижу, что Катька, моя бедная Катька, совсем потеряла голову.
Конечно же, она тащит меня в его мастерскую, в маленький пыльный подвал в районе Чистых прудов.
Там я вижу Катьку сидящую, лежащую, стоящую, обнаженную и в одежде – словом, Катька везде и всюду. Ганецкий хорош собой – крепко сбитый, с сильными руками ремесленника, синеглазый, с короткой русой бородой, рваные джинсы и растянутый вязаный свитер. Он заваривает нам чай, глубокомысленно курит трубку – и по всей мастерской витает запах вишневого листа. Он почти не обращает на нас внимания – рассеянно ходит по мастерской, переставляет работы, месит глину…
Мы с Катькой пьем чай и тихо, как мыши, перешептываемся.
– Ну, как тебе? – одними губами спрашивает Катька.
Я пожимаю плечами. Она обиженно машет рукой, мол, ничего ты не понимаешь.
Потом Катька надолго пропадает, да и у меня куча разных дел.
Через три месяца она появляется на пороге моей квартиры – и я пугаюсь ее вида. Она «черная лицом» – теперь я понимаю значение этого выражения. На исхудалом лице горят необыкновенные Катькины глаза. Покачиваясь, она садится на табуретку и просит кофе.
– Может, поешь? – предлагаю я.
Она мотает головой:
– Ничего не лезет.
И рассказывает, что Ганецкий выгнал ее, потому что, ясное дело, у него завелась баба. И еще что у нее, у Катьки, срок два с половиной месяца.
– Какой срок? – торможу я.
– Тот самый, – тихо говорит Катька.
– И что делать? – Я пугаюсь.
– Не знаю, – плачет Катька. – Срок большой. А рожать я не буду.
Я долго увещеваю ее, что надо родить, ведь от любимого же, и говорю про то, как страшно делать первый аборт.
Катька неожиданно говорит:
– А жить вообще страшно. Ты не заметила?
– А что Ганецкий? – спрашиваю я.
– Умней вопроса на нашлось? – огрызается Катька. – Сказал, твои проблемы.
Мы, конечно, нашли врача, опытного. На большом сроке Катьке сделали аборт. В больнице она лежала тихая и бледная, не плакала, просто смотрела в одну точку.
В «Строгановку» она не вернулась, сказала, что «не может видеть всех этих». Пошла работать в ЦУМ, продавщицей, в отдел сувениров. Объяснила, что на людях ей легче.
Она ни с кем не встречалась, говорит, что все еще любит Ганецкого и что на сердце – одна сплошная кровавая рана.
Однажды неумело попыталась вскрыть вены – потом испугалась, и у нее хватило сил позвонить мне. Я прибежала одновременно со «Скорой».
Катьку положили в психушку с диагнозом «острая депрессия». Там она пробыла почти месяц, потом еще месяц провалялась на диване лицом к стене. Лекарства не помогали.
Спасла ее слепая бабушка – за ней надо было ходить, кормить, убирать. Пришлось подняться. Потихоньку ходила в магазин, в аптеку, готовила еду. Говорила почти шепотом, сильно дрожали руки и ноги, совсем не было сил. Ни о какой учебе и речи не шло – надо было кормить себя и слепую бабушку.
А через год она собралась замуж за Тьерри. Познакомилась с ним, понятное дело, на работе: он покупал какие-то сувениры – матрешки, самовары, встречались три дня, потом он прилетел через полгода и сделал предложение. Долго ждали всякие бумаги, собирали кучу справок – но, слава богу, поженились, и Катька укатила в Париж.
Из Парижа она писала восторженные письма: «Все клёво, сказка, сказка, хожу по Елисейским Полям. Пью кофе на пляс Пигаль. Ездили в Ниццу. Загорали в Провансе. Отметились на фестивале в Каннах».
Через два года Катька благополучно родила Альку.
Впервые я приехала к ней в гости, когда Альке исполнилось два года. У Катьки было все – квартира в шикарном районе, дом в деревне (видели бы вы эту самую деревню!), серебристый «Пежо» в гараже. Тьерри ее обожал, его родители относились к ней терпимо, а это уже немало, Алька росла веселым и спокойным ребенком.
Как-то вечером мы сидели одни на кухне и пили чай.
– Ты счастлива, Катька? – спросила я ее, понимая всю глупость своего вопроса.
Она долго молчала, а потом ответила:
– Знаешь, теперь я точно знаю, как выглядит счастье. И несчастье. – Она опять замолчала. – Но не могу тебе сказать, когда я больше была счастлива: теперь, в счастье, или тогда, в нищете, убогом быте и унижении. Это страшно и дико, но теперь я понимаю, что тогда я тоже была счастлива. По-другому, понимаешь?
Я кивнула. Я все поняла.
В Москву Катька не приехала ни разу. За могилами деда и бабки ухаживаю я. И я раз в два года езжу к Катьке в Париж.
После ужина мы пьем итальянский ликер «лимончелло». Потом Катька убирает посуду, Тьерри смотрит телевизор, а мы с Алькой шушукаемся у нее в комнате.
– Уговори родителей отпустить меня в Москву, – просит Алька. – Ну, пока я еще свободный человек. Понятно, что мой будущий муж не захочет ехать в Россию. Он говорит, что в мире столько прекрасных мест, жизни не хватит объехать. Наверно, он прав, но я ужасно хочу в Москву. Все хочу сама увидеть – и ваши дачи, где прошло ваше детство, и все-все. Понимаешь?