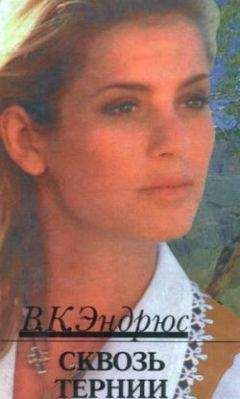Ненормальный. Сумасшедший. Как жалко его.
— Барт, — начал вкрадчиво увещевать я, — ты же знаешь, что дядя Пол умер совсем не так.
Но к чему говорить ему это? Дядя Пол умер спустя несколько лет после рождения Барта. Спустя сколько? Я могу вспомнить дядю Пола, но не помню годы. Мог бы спросить у мамы, но не хочу снова тревожить ее этим. Я повел Барта к дому.
— Барт, твой настоящий отец умер, когда он сидел на веранде и читал газету. Он не умер при пожаре. У него было больное сердце, и это вызвало тромбоз коронарных сосудов. Вспомни, папа нам все объяснил.
Я видел, как темнеют его глаза, как наливаются упрямой силой, расширяясь, зрачки, и немедленно он затеял драку со мной:
— Я не о том отце говорю! Я говорю о моем настоящем папе! Он был юрист, он был сильным и большим, у него никогда не болело сердце!
— Барт, кто тебе все это наплел?
— Сгорел! — заорал он, вырываясь и протягивая руки, как в дыму, пытаясь найти выход из огня. — Это Джон Эмос мне рассказал! Весь мир был в огне! На Рождество загорелась праздничная елка! Люди бегали, кричали, наступали "а упавших! И тогда этот огромный дом упал и поглотил собой всех, кто там остался! Мой папа умер, умер там!
Ну, все, хватит. Пойду и все расскажу родителям.
— Барт, послушай-ка. Если ты не перестанешь ходить к соседям и слушать всякие идиотские истории, я расскажу обо всем родителям, а они пойдут разговаривать о тебе к соседям.
Он закрыл веки, будто ему надо было разглядеть что-то в своем собственном воображении. Он будто высматривал там еще более достоверные детали. Потом его темные глаза открылись. Взгляд его был бешеным и диким.
— Занимайся своим поганым делом, Джори Маркет, или убирайся!
Он подобрал старую бейсбольную клюшку и внезапно запустил ее мне в голову. Она вышибла бы мне мозги, если бы я не нагнулся.
— Если заикнешься обо мне и бабушке, я убью тебя, пока ты спишь.
Сказал громко и холодно, открыто глядя мне в глаза.
Я почувствовал, что у меня волосы становятся дыбом от страха. Неужели я его боюсь? Нет. Ведь он — мой младший брат. Я продолжал молча взирать на него. А он внезапно сбросил с себя всю браваду и схватился за сердце. Я улыбнулся: я-то знал его секрет. Он всегда таким образом избегал настоящего столкновения.
— Ну, хорошо, Барт. Тогда я сам возьмусь за это дело. Я сам пойду к этим соседям и спрошу у них: почему это старые люди позволяют себе забивать голову мальчишке всяким мусором.
Личина старика мгновенно спала с него. Губы его беспомощно раскрылись. Он с мольбой посмотрел на меня, но я решительно повернулся и пошел, точно зная, что он ничего не предпримет. Бамс! Я упал плашмя от тяжести, вспрыгнувшей мне на спину. Это был Барт. Я хотел было поздравить его с наконец-то быстрой и точной реакцией, но он принялся молотить меня кулаками в лицо.
— Ты теперь не будешь красавчиком, — прошипел он.
Я нанес ответный удар, не посмотрев прежде, что он, оказывается, колотит меня вслепую, с закрытыми глазами, и при этом всхлипывает, как ребенок. И я уже не смог ударить вторично.
— Испугался, да? — Он оттопырил верхнюю губу и зарычал, весьма довольный собой. — Ну, что, узнал, кто здесь хозяин, да? В глаз хочешь, да?
Тут уж я не выдержал и двинул его что было силы. Он упал, и я снова устыдился: ведь он становился сильный, только когда злился.
— Тебя надо проучить хорошенько, Барт Шеффилд, и я этим, пожалуй, займусь. В следующий раз подумай дважды, прежде чем угрожать мне, а то это ты останешься без глаза.
— Ты никакой мне не брат, — всхлипывал Барт. Весь пыл сошел с него. — Ты мне брат только наполовину, а это все равно, что не брат.
Он плакал навзрыд и подвывал. Грязными кулаками он тер глаза, не находя выхода своим эмоциям.
— Ты видишь: та старуха пичкает тебя дурацкими мыслями, а их у тебя и так больше чем достаточно. Она просто настраивает тебя против семьи, и я ей это выскажу.
— Не смей! — взвизгнул он, и ярость снова обуяла его. — Или я не знаю что сделаю… Я сделаю! Я клянусь, что я что-то натворю! Ты пожалеешь, если пойдешь туда!
Я усмехнулся:
— Это ты меня заставишь пожалеть или еще кто-то?
— Я знаю, что тебе там надо, — сказал он угрюмо, снова становясь ребенком. — Ты хочешь отнять у меня моего громадного пса. Но он не полюбит тебя ни за что! Ты хочешь, чтобы моя бабушка увидела тебя и полюбила больше, чем меня. Но у тебя не получится! Ты хочешь все у меня отнять, но я тебе не отдам, не отдам!
Мне стало его жаль. Но так оставить я это не мог.
— Иди, пожалуйся маме, она пожалеет! — презрительно бросил я и ушел.
Он кричал у меня за спиной о том, что я еще пожалею, что он что-то натворит…
— Ты еще заплачешь сам, Джори! Ты заплачешь так, как не плакал никогда в жизни!
Солнце ярко сияло в этот день, деревья отбрасывали на дорогу тень, и вскоре я забыл о Барте, о его угрозах. Солнце начинало печь мне голову. Позади послышалось шлепание маленьких лапок. Я присел, ожидая увидеть на повороте Кловера и принять его в объятия. Он всегда встречал меня так восторженно, бросаясь мне на шею и облизывая мне лицо, с тех пор, как мне исполнилось три года, и Кловер стал моим.
Три года… Я вспомнил, как мы жили тогда с мамой в горах Блю Ридж Виргинии, в маленьком коттедже, примостившемся на склоне. Я помнил темноглазого человека, очень высокого, который подарил мне не только Кловера, но еще и кота, которого мы назвали Калико, и попугая по имени Ваттеркап. Кот убежал и не вернулся. А Ваттеркап умер, когда мне было семь лет.
— Будешь моим сыном? — вспомнил я слова этого человека, которого звали… звали… Барт? Барт Уинслоу? Боже мой… только сейчас я начал осознавать что-то, что до сих пор выпадало из моего сознания. Или… мой брат Барт — сын этого человека, а не дяди Пола? Отчего бы иначе мама назвала своего сына именем человека, который не был ей мужем?
— Иди домой, Кловер, — сказал я, и он понял. — Тебе уже одиннадцать лет, и не годится тебе гулять по солнцепеку. Иди домой, ляг в тенек и жди меня, о'кей?
Помахивая хвостом, он послушно удалился, оглядываясь на меня. Как только я повернусь, он снова последует за мной. Поэтому я терпеливо ждал, пока он не скроется из виду. Тогда я продолжил путь к огромному особняку, что был по соседству. Из головы у меня не выходило мое открытие… и все события прошлого крутились, как в калейдоскопе. Я вспомнил балет на Рождество, рождественский вечер и человека, который подарил мне мой первый электрический поезд. Но я отчего-то оборвал цепь воспоминаний, желая сохранить образ матери священным, свою любовь к дяде Полу нерушимой, а уважение к Крису — непоколебленным. Нельзя позволять себе вспоминать лишнее.
Любовь и любимые люди приходят и уходят, говорил я себе. Балет — это тоже жизнь, только экзальтированная, с преувеличенными страстями. И смело, как бы сделал мой папа, я подошел к железной ограде и проговорил в телефонное устройство, что хочу быть принятым. Железные ворота тихо распахнулись, как двери каземата, чтобы пропустить меня внутрь. Я почти бегом преодолел извилистую тропинку к дому и позвонил, а потом постучал медным молотком в двойные двери.
Я нетерпеливо ждал, пока мне открывал сгорбленный старик дворецкий. Тем временем позади меня закрылись железные ворота. Я почувствовал себя так, будто попал в ловушку. Я чувствовал себя бедным скитающимся принцем, который не знал волшебного слова. Только Барт знал его. И, совсем как Барт, я придумывал волшебные ситуации, только из своей сферы, из балета.
Смущение и сожаление внезапно охватили меня. Нет, этот дом не похож был на замок злой колдуньи, который мне предстояло завоевать. Это просто был старый дом старой женщины, которая, видимо, нуждалась в Барте так же сильно, как и он в ней. Но, конечно, она не может быть его бабушкой, это он все придумал. Та бабушка, я знал, находится в сумасшедшем доме где-то далеко в Виргинии. Туда ее поместили за какое-то ужасное преступление.
Здесь все было тихо; вся обстановка подавляла и делала меня как-то старше. У нас в доме всегда была музыка, шум с кухни, лай Кловера, крики Синди, шумные игры Барта и возня Эммы. Но в этом доме не слышно было ни шороха. Я нервно вытер ноги, уже жалея о своем намерении встретиться с хозяйкой. Тут я заметил тень фигуры за занавешенным окном. Я вздрогнул и хотел было бежать, как дверь открылась и в нее выглянул дворецкий:
— Можете войти, — негостеприимно проговорил он, меряя меня взглядом водянистых глаз, — но не задерживайтесь слишком долго. Леди стара и быстро устает.
Я спросил, как ее зовут, потому что уже устал называть ее про себя «старой женщиной» или «женщиной в черном». Мне не ответили. Дворецкий был мне неприятен всем: своей походкой, шарканьем, стуком эбонитовой трости по паркету и розовой блестящей лысиной. Тонкие белые усы его свисали двумя шнурами на сжатые губы. Несмотря на то, что казался он слаб и стар, в нем было что-то зловещее.