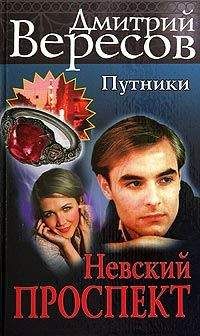– Тогда прощай, дядя... Я тебя любил. Я гордился тобой. Прости, что причиняю вам такое горе... прошу никого не винить...
Выдергивает из брюк ремень и норовит пристроить петлю к оконному карнизу.
– Прекратить!! – грохочет кулаком бездушный дядя, солдафон от маринистики.
Тут в комнату впадает его жена, племянникова тетя, которая всю эту душераздирающую сцену подслушивала за дверью, и говорит:
– Сашенька, есть у тебя душа или нет у тебя души? Ты посмотри – на мальчике ж лица нет. Он же над собой что-то сделает, ты что, не понимаешь?.. Я всегда говорила, что нельзя отдавать мальчика во флот. Все эти твои матросы – они такие грубые. Они пьют, как биндюжники, они ругаются – это тихий ужас! Я после них неделю мою квартиру и проветриваю от табака и портянок.
– Моряки не носят портянок!!!
– Скажите пожалуйста! А что они носят? Это так важно? Или у тебя много племянников?..
– Не лезь не в свое дело! – гремит дядя.
– Это мое дело! – кричит ему тетя. – И не смей на меня кричать! Кричи на своих адмиралов, так их ты боишься!
– Я боюсь?! – орет дядя. – Да я – член правления... кандидат ЦК...
– Так почему ты не можешь пойти в гости к этому Головко? Он к тебе прислушивается, я же знаю. Они же понимают, что ты умный человек. Что тебе стоит? Ну хорошо – выпей с ними, посиди, я тебе разрешаю.
– Никуда не поеду, – отрубает дядя.
Штейн подставляет стул к своей петле на окне и закрывает глаза.
– У тебя есть сердце? – спрашивает тетя. – Или у тебя нет сердца? Ты посмотри, что делается с ребенком. Если бы я была его министром, так я бы давно отпустила его куда он хочет. Какое море? Только Черное. Мальчику необходимо курортное лечение, это кожа и кости. У него совсем слабые нервы. И вообще ему нисколько не идет эта форма, ты посмотри на него – и это матрос?..
В конце концов дядя плюет, звонит Головко домой, надевает свою шубу на бобрах, сует в карманы две бутылки армянского коньяка, вызывает из гаража свой персональный ЗиМ и едет к Головко.
Головко принимает его сердечно, ставит, в свою очередь, свой коньяк, вестовой накрывает стол – серебряные подстаканники, нарезанный кружевом лимончик, балычок-икорка с разных флотов; пьют они коньяк и чай по-адмиральски (а чай по-адмиральски – это так: берется тонкий чайный стакан в серебряном подстаканнике, наливается крепчайшим горячим свежезаваренным чаем, бросается ломтик лимона и сыплется три ложечки сахара; а рядом становится бутылка коньяка. Отхлебывается чай, и доливается доверху коньяком. Еще отхлебывается – и еще доливается. И вот когда стакан еще полный, а бутылка уже пустая – это и есть настоящий адмиральский чай). И с удовольствием беседуют. Головко говорит о литературе, Штейн говорит о флоте, и очень оба довольны поговорить с понимающим и компетентным собеседником.
И дядя, как бы между делом, в русле застольного разговора, повествует в юмористическом ключе, чтоб никак не дай Бог не отягчить настроение хозяина, всю историю злоключений своего племянника – как отвлеченного флотского офицера, не называя фамилий. И адмирал совершенно благоприятно это воспринимает, заливается смехом и переспрашивает подробности, войдя во вкус, слезы утирает и за живот держится. Такой юмор ему в кайф: до боли знакомая фактура.
А в заключение рассказа дядя эффектным жестом выдергивает рапорт своего племянника и кладет перед Головко. Головко, еще похрюкивая, тянется за очешником, надевает очки, читает рапорт и закатывается диким хохотом:
– Ох-ха-ха-ха! – лопается. – Так это что – с твоим племянником все это было? Ха-ха-ха! Ну, ты драматург!
Это, значит, дядя придумал такой драматургический ход. И теперь с удовлетворением видит, что все он рассчитал правильно – ударный сценический ход по адмираловым мозгам, сюжет свинчен истинным драматургом, что адмирал и признал: никакого неудовольствия у него, а сплошные положительные эмоции. Хороший дядя драматург. Настоящий. Крупный.
– Вот, – говорит, – хо-хо-хо! такая, понимаете, история. Так что, если можно... не моряк, что поделать.
– Ох-ха-ха-ха! – надрывается Головко. Развинчивает авторучку, чертит в углу рапорта собственноручную резолюцию, размашисто подписывает, складывает лист и швыряет через стол дяде. – Ну, спасибо за спектакль! потешил старика! А я-то думаю, откуда это ты в таких подробностях все это знаешь!.. Погоди-ка, – и жестом велит вестовому поставить еще бутылку. – Выпьем еще, посидим. Давненько я так не веселился! Ну-ка расскажи еще раз, как это он шпалер в гальюне забыл... ха-ха-ха!
И к двум ночи вдребезги пьяный дядя, знаменитый драматург Штейн, является на своем ЗиМе домой. Шофер его вводит в двери, дядя, с красной физиономией, сильнейше благоухая на весь дом хорошим коньяком, благодушный и снисходительно-гордый, падает в своей распахнутой шубе в кресла.
А племянник, уже синий от непереносимого волнения – судьба решается! – бегает по стенам в полубессознательном состоянии. И смотрит на дядю, как блоха на собаку, которою можно прокормиться и выжить, а может она тебя и выкусить.
Тетя говорит:
– Сашенька, не томи же душу. Мальчик весь извелся. Ну что, таки он подписал это заявление? Прошу тебя!
Дядя лыбится и извлекает из себя звук:
– Ы!.. салаги!.. на!
И гордо пускает племяннику через комнату порхающий рапорт.
Тот его ловит, вспыхивает счастливым лицом, дрожащими руками разворачивает, и читает наискось угла крупным твердым почерком резолюцию:
«ПУСКАЙ ПОСЛУЖИТ! = ГОЛОВКО =»
И этот личный верховный приказ так шарахнул его по нежному темечку, что он беспрекословно убыл к месту службы и безмолвно тянул лямку положенные еще пять лет. И больше он к дяде не обращался ни по каким вопросам никогда в жизни.
Но дядя же недаром был великий драматург. Он был крупной и сообразительной личностью, и ежели бы угодил на флот самолично, а не племянник, то уж он бы дослужился точно до адмирала, невзирая на образованность и национальность. Потому что он, в отличие от неудачника-племянника, обладал в полной мере главным достоинством людей, умеющих добиваться любых целей, – умением обращать свои поражения в победы.
Потому что все это он скомпоновал в форме пьесы, использовав все детали и подробности, вплоть до включения в текст подлинных стихов бедолаги-племянника. А идея пьесы полностью соответствовала командной директиве Головко: пускай послужит! Пьеса получилась в меру смешная, в меру драматичная, и вполне назидательная для среднего флотского комсостава. И театры ее взяли на ура.
Называется пьеса «Океан». Люди постарше хорошо ее помнят.
Премьера состоялась в БДТ у Товстоногова, и билетики стреляли за два квартала. Вот что значит подойти к делу с умом и талантом.
Характерно, что недотепу-старлея играл Юрский, и зал аплодировал его выходкам и речам, а его положительного командира – сугубо положительный Лавров, игравший всех положительных от Молчалина до Ленина; этот расклад ролей в полной мере отразился на их собственных судьбах, когда первый много лет бедствовал, а второй процветал. Товстоногов умел видеть суть актера!.. Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Народ сам пишет биографии своих героев, ибо народ лучше знает, какой герой ему потребен. Биография героя – общественное достояние. Как все общественные достояния, она подвержена удивительным метаморфозам, а особенно, конечно, в Советской России, которая и вся-то есть такая метаморфоза, что аж Создатель ее лишился речи и был разбит параличом при взгляде на дело рук своих.
Правда же проста и отрадна. Когда в мае шестьдесят седьмого года победные израильские колонны грянули через Синай, взошла и в ночных ленинградских кухнях шестиконечная звезда одноглазого орла пустыни генерала Моше Даяна. И люди узнали, что:
Одноглазый орел (приятно ассоциировавшийся с великими Нельсоном и Кутузовым) не всегда был одноглаз и даже не всегда был израильтянином, по причине отсутствия тогда на глобусе государства Израиль. А родился он в Палестине, территории британской короны, и был соответственно подданным Великобритании. Профессиональный военный, кончал офицерское училище, а в тридцатые годы учился какое-то время в советской Академии Генштаба, тогда это было вполне принято (происхождение, в родительской семье еще не забыли русский язык, – нормальная кандидатура для знакомства с военной доктриной восточного соседушки). Сейчас трудно в точности утверждать, на каких языках он общался с Гудерианом и де Голлем, посещавшими означенную академию в то же время; интересный там подобрался коллектив. По ним судя, учили там тогда неплохо.
Будучи здоровым парнем и грамотным офицером, в начале второй мировой войны Даян служил капитаном в коммандос. И с началом боевых действий естественно оказался на европейском материке. Сохранился снимок: боевой офицерюга сухощавой британской выправки стоит, раздвинув ноги, на берегу Ла-Манша, в полевом хаки, со «стеном» на плече и биноклем на шее. Пиратская повязка через глаз придает ему вид отпетого головореза. Ла-Манш, из любви к истории заметим, снят с английской стороны, потому что глаз Даяну вышибли в сороковом году немцы в Дюнкерке, боевое ранение, они там вообще всех англичан вышибли со страшной силой вон за пролив, мясорубка знаменитая.