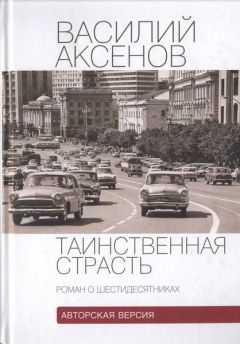Он чуть отстранился от своего микрофона, как бы призывая аплодисменты. И они не заставили себя ждать. В зале немедленно возникли «бурные, переходящие в овацию» и сопровождаемые гулом приветственных возгласов. Ваксон оглянулся и увидел, что многие встают и размахивают руками. Сквозь общий гул прорезались крики: «Правильно, Никита Сергеевич!», «Гнать этих мальчиков!» Вскочил и сидящий рядом Налбандян: «Пора с этим кончать, Никита Сергеевич!»
Хрущев наливался жаром. Свекольные пятна появились на голове и на щеках. Набряк нос. Он чуть пригасил изъявления восторга и разразился пространным параграфом: «Посмотрите, товарищи, на этих вождей и на их окружение, на этих «мальчиков с поднятыми воротниками»! Чего они стоят в мире, где идет историческая борьба? Ноль на палочке они стоят! Эр полемизирует с боевыми стихами Аполлона Грибочуева, с его стихотворением «Нет. мальчики!». Он хочет представить это так, как будто коммунисты отстали от жизни. Будто только они, новые, понимаете ли, поэты выражают настроение нашей молодежи. Ошибаетесь, Эр, заблуждаетесь! Кто вы такой, чтобы опровергать поэта-солдата, у которого меткий глаз и точный прицел, который без промаха бьет по идейным врагам? Давайте, товарищи, поприветствуем поэта-коммуниста товарища Грибочуева!»
В зале началась сущая истерика. Пароксизмы восторга. Многие даже смахивали слезы, ударяли себя в грудь, поднимали сжатые кулаки, в героическом экстазе выкрикивали «этим мальчикам» — Но пасаран! Над рядами голов приподнялась свежепротертая лысина Грибочуева. Он благодарил товарищей за солидарность.
Хрущев продолжил: «Это, конечно, не совсем так, чтобы все туда поворачивалось как нежелательное. Иногда порою так бывает, что от этих поэтов польза вытекает истории и событиям. Вот наши послы во Франции и Западной Германии сообщают одобрительное про выступления Тушинского. Однако хочется сказать и этому товарищу Тушинскому, чтобы дома-то следует сидеть поскромнее. Майки с его портретами наша молодежь не будет носить НИКОГДА! (В зале опять поднялся рев — Никогда! Никогда! Никогда!) Я бы вот по-прямому бы посоветовал товарищу Тушинскому держаться в рамках, не ловить сенсацию-то за мокрую-то юбку нечистоплотного качества, не подлаживаться к обывательскому ширпотребу; воспарять надо, а не по огородам пробираться! А вам, Эр, советую под наше гордое знамя вставать, а не под свое собственное единоличное притираться, не созвучное с эпохой! Все! Идите на место! Садитесь!»
Он опустил и свою задницу в кресло, но вдруг заметил, что Роберт Эр еще стоит и смотрит на него исподлобья, как будто хочет что-то еще сказать неудобоваримое, не созвучное, усугубляющее. Отверг подобное поползновение резким жестом руки. Дескать, идите, товарищ Эр, садитесь. Дескать, молчите в тряпочку! Роберт повел плечами. Протест поднялся в нем и будто бы прокричал: «Как ты смеешь, гад, так хамить, так издеваться? Смотри, аукнется тебе хулиганский нахрап!» — Увы, протест увял. Он опустил голову и пошел на свое место — молчать в тряпочку.
В дальнейшем все пошло удовлетворительным образом. Генеральный секретарь закусил удила и помчался по своим родным ухабам. Поэтам он стал впаривать образец для подражания, застрявший в башке еще со времен шахтерской юности: «Это был настоящий пролетарский поэт, Павел Махиня, не какой-нибудь обывательский, буржуазный. Весь Донбасс вдохновлял своими стихами:
Рабочий класс — большая сила!
Он добывает нам углей.
Когда отчизна попросила,
Трудись для родины смелей.
Вот я делаю тут интересные наблюдения. Вот смотрю в зал и замечаю, что не все аплодируют. Далеко не всем, товарищи, патриотические высказывания нравятся. Вот смотрю и вижу Илью Григорьевича Эренбурга; он не аплодирует. Как же это получается, товарищ Эренбург? Ведь вас Гитлер заочно к смертной казни приговорил, а вы отстраняетесь? Между прочим, спасибо за вашу книгу «Люди, годы, жизнь» с теплой надписью. Однако, должен покаяться, не в коня пошел корм. Как-то вы там все построили не по-нашему. Как-то маловато там у вас социалистического реализма: вспоминаете там людей не всегда безупречных с точки зрения марксистской науки. Как-то кажется, что не советский писатель рассказ ведет, а какая-то старорежимная барыня. Ну что? Хотите с трибуны опровергнуть большевика? Извольте, милостивый государь!»
Оренбург, конечно, понимал, что тут идет игра в кошки-мышки и он не в роли кота. Однако видеть в себе нахохлившегося старого грызуна он принципиально отказывался и потому на каждую оскорбительную фразу генсека отвечал отрицательным жестом ладони; и молчал. Из-под лохматых седых бровей он бросал на генсека острые взгляды и не мог понять, что с тем стало. Что это он так озаботился искусством, чего он так неадекватно бесится, что это за страннейшая кампания в послесталинском обществе разворачивается? Еще в прошлом году на приеме в Кремле Хрущев подошел к нему, и они полчаса беседовали о курьезах «третьего возраста». И вот, пожалуйста, отказываемся от диалога… Молчать, ничего не отвечать, молчать хотя бы в тряпочку!
Хрущев зафиксировал приглашающий жест: извольте, извольте на трибуну — но, не дождавшись ответа на приглашение, продолжил другим, отнюдь не ерническим, а жестким тоном правителя: «Эренбург изображает нашу революцию как катастрофу, а вот для меня и, уверен, для большинства людей в этом зале, для всего великого советского народа революция — это не катастрофа, а грандиозный праздник свободы, товарищи!»
Последовавший за этим выкриком рев можно было бы сравнить с самой революцией, во всяком случае, с фонограммой штурма Зимнего в советском фильме о революции. Триумфатор Хрущев сиял. Если Павел Махиня казался ему лучшим пролетарским поэтом, то самого себя он, конечно, видел как лучшего оратора. Просияв, повернулся и пошел со сцены. Перерыв. Буфет.
Приятно возбужденная публика густо, как стая осетров, продвигалась к буфету, где ждали ее как раз осетры, возможно, те самые, с которыми ее только что сравнили. Роберт двинулся к буфету в числе последних. Почти все уже всосались, но в пустом коридоре у большого кремлевского окна стояла одинокая прямая фигура в великолепном сером костюме. Это был не кто иной, как поэт-солдат Аполлон Грибочуев. Он поджидал своего потерпевшего поражение оппонента. Увидев крупную ссутулившуюся фигуру с сигаретой в полных губах, он четко подошел к нему и примирительно похлопал по плечу: «Ну, ничего-ничего, что делать, если История нас опережает». Не повернув к нему головы, Роберт прошел мимо.
В буфетной зале шел пир. Правительство не поскупилось. Богатство родины было представлено белой рыбой и красной рыбой, горками икр обоего цвета, кулебяками, печеными пирожками, выпечкой с вязигой, венгерскими вольноотпущенными индейками, валдайскими поросятами, напоминающими кое-кого из зала, винами из личного погреба далеко еще не забытого византийца (дали умереть, а «Киндзмараули» утащили), виноградами из его родной Картли; и только цитрусы были привозные — большие поставки из Яффы через Дальний Восток.
Ваксон, войдя в буфет, помахал через головы Яну Тушинскому. Они давно не виделись: в декабре Ваксон сподобился посетить первую в его жизни капстрану, Японию. (Крошечная история в скобках. На пресс-конференции в Токио его спросили: «Вы впервые посещаете западную страну?» Ответ Ваксона: «С каких это пор Япония располагается к Западу от России?» Хохот, аплодисменты. Шепот нашего посла: «Молодец!») Тушинский с его богатым опытом литературного путешественника в январе и феврале в полном одиночестве, то есть без всяких соглядатаев, совершал турне по Франции и Западной Германии. Перефразируя популярную тогда шутку из американского романа в переводе Риты Райт-Ковалевой: «Что говорит одна стенка другой стенке? Встретимся в Кремле!» Тушинский не ответил Ваксону. Сделал вид, что не заметил. Бурно продолжил разговор с одним из трех главных сталинистов Москвы — Евдокимом Суфроньевым. Несмотря на полное идейное несходство, они тяготели друг к другу. Ваксон хотел было крикнуть «Эй ты, коман са ва!», но передумал. Стал искать глазами Роберта, но не нашел. Кто-то окликнул его. Справа от входа, в углу, сидели киношники, трех из них он знал — режиссеров Шахрая, Месхиева и Турковского; они ели сосиски и его к себе приглашали. Он присел. Официантка тут же принесла ему тарелку дымящихся сосисок с зеленым горошком. Месхиев, крошечный кавказец в больших очках, с огромным аппетитом отрезал куски от длинной сосиски, покрывал их толстым слоем горчицы и с наслаждением поглощал. «Слушай, Вакс, это что-то невероятное! — мотал он башкой с закрытыми от смака глазами. — Вот уж не думал, что где-то остались еще сосиски моего детства. Настоящие, сочные, просто, просто, просто, ну, просто оптимистические сосиски!» Ваксон попробовал, и действительно на него дохнуло чем-то очень далеким. За окном в сумерках мелькнула стайка снегирей. Не просто детство, а самое раннее детство, то, что было до. Вот тогда были такие сосиски — до этого.