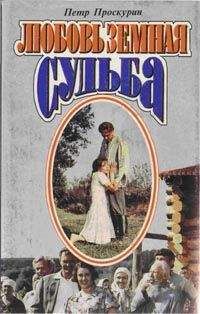— Соли у нас маловато, всего щепоть, — с сожалением сказал Егор, блаженно щурясь от огня; тело только сейчас отходило от ледяной воды.
— У тебя есть соль? — удивленно и недоверчиво спросил Николай, собирая на большом выпуклом лбу складки.
— Я еще утром об этом подумал, — сказал Егор, движением лица указывая на костер, и, заражаясь от Николая голодным нетерпением, судорожно глотнул воздух. — Ну уж ладно, сегодня будет у нас велик день. Немного ждать, гляди, ткнешь ножиком, сукровица идет, еще не прожарилась. Вот я ее скоро на две половины разложу, уж нажремся! Ну ладно, кажется, и готово, — сказал он, отведя палку с куском мяса от огня. — А то ужарится, и есть будет нечего. Давай вот, Коль, собери дубовых листьев поболе, на них и делить будем.
Пока Егор складывал куски на две части, Николай старался не глядеть в его сторону и на мясо и, хотя гнал эти мысли от себя, все время думал, что Егор положит себе побольше. Егор рассыпал соль из тряпицы на два прошлогодних дубовых листа и осторожно положил их рядом с мясом.
— Ну, а теперь я отвернусь, а ты спрашивай, кому, — сказал Егор и, зажмурившись, сидя, крутанулся назад.
Николай, часто и беспомощно моргая от прежних своих нехороших мыслей о брате, положил руку рядом с порцией мяса.
— Кому? — спросил он хрипло, уже не в силах владеть собой.
— Тебе, — весело отозвался Егор, и они тотчас стали есть, Николай, жадно пережевывая вместе с мясом и кости, а Егор с некоторой осторожностью, словно вначале пробуя и оценивая, вкусна ли получилась стряпня.
— Соль, соль забыл, — напомнил он Николаю, — гляди, он дичины без соли может живот схватить. По крупинке в рот бросай, ох, скусно, черт дери!
Николай не ответил, да и не мог ответить, но когда от утки ничего не осталось, чувство голода лишь усилилось; Николай поднял с земли чисто обглоданную косточку и стал ее сосать.
— Дураки мы с тобой, — огорчился Егор, — надо было котелок захватить. Эх, я, остолоп! Утку бы сварили, взвар бы мясной... Ладно, пошли, хоть с берега попьем.
Братья спустились к воде и напились, и оба скоро почувствовали, как начинают слипаться глаза, сытная, непривычная пища их совершенно обессилила, и они еще долго сидели у затухающего костра, огрузневшие, молчаливые, скованные теплой дремотой.
За постоянной немеренной крестьянской работой с зари до зари, в заботе о куске хлеба для ребят Ефросинья не замечала, как летит время; Егор с Николаем росли на свободе, как растет дикое дерево. Бабка Авдотья тоже мало что могла дать внукам в это трудное время бесхлебья, хотя ее хлопотливая забота и ворчливая старушечья любовь к ним были великим, неоценимым благом; для бабки Авдотьи ее внуки были лучше всех на свете, и она никогда не задумывалась, почему это так; просто так должно было быть по порядку жизни, и так оно для нее и было. И утки, удачливо добытые братьями на Слепненских озерах, лишь явились подтверждением того, что ее внуки самые ловкие и удачливые из всех ей известных кругом детей (правда, она тайно никому не показывая, испытывала большую симпатию и к поливановскому Илюше, но в этом опять-таки говорил голос крови).
Уже вечером, после возвращения братьев с охоты, совершенно ослабевшая от недоедания бабка Авдотья, охая и ахая, ощипала слабыми пальцами уток, бережно подбирая перо и пух в корзину и поминутно поднимая иссохшую руку для креста.
«Господи, святая матерь, заступница ты наша! Возрадуемся на щедрость и благодать твою! — неслышно бормотала бабка Авдотья про себя. — Теперь проживем... И травка разная пошла, крапивка, щавелек... Проживем. Слава тебе!»
Тут же распределив и слегка присолив мясо, бабка Авдотья сварила на мясном взваре борщ из той же крапивы, щавеля, для вкусу, не поскупившись, положила в него две картошины, и, впервые не дожидаясь, пока поедят ребята и Ефросинья, налила себе в продолговатую крышку от немецкого котелка и, опять помолившись, похлебала мясного взвару, жмурясь от забытого удовольствия, по прежнему с благодарностью к богу за таких добычливых, домовитых внуков. Половинку утицы она завернула в какой-то помятый лист бумаги и украдкой от внуков и невестки отнесла Лукерье Поливановой, сказала ей подкормить Илюшку, и, довольная собой, внуками и жизнью, впервые за много дней легла спать успокоенная и твердо убежденная, что в жизни непременно наступит поворот от бед и напастей, и это предчувствие хорошего не покидало ее и во сне. Она и во сне молилась за щедрость жизни, но открыла глаза где-то ближе к восходу от неясной боли; бабка Авдотья ойкнула и, окончательно проснувшись и нащупав ногами опорки, заторопилась из землянки. Она решила, что живот у нее разладился от мясной тяжелой похлебки, и утром никому ничего не сказала, она не привыкла обращать внимания на подобные мелочи; на другой день она мимоходом обронила Ефросинье, что у нее с животом худо, но тут же добавила, что это, видать, от утиного мяса на нее такое действие, к завтрему, гляди, и пройдет. Но ни завтра, ни через два дня это не прошло, и бабка Авдотья слегла по-настоящему; она послала Егора на луг надергать прошлогодних сухих головок конского щавеля, сказала Ефросинье густо натомить их и стала пить этот темный горький отвар три раза в день, но болезнь не затухала. Бабка Авдотья уже не могла сама выбираться из землянки, и Ефросинья для нужды подавала ей большое старое ведро; вдруг в какой-то час и Ефросинья и бабка Авдотья поняли, что это не болезнь, а конец, и Ефросинья побежала к родственникам, к председателю Кулику, вернувшемуся месяц тому назад из партизан откуда-то из Белоруссии с обмороженными ногами и сменившему Свиридова. Нужно было показать больную доктору, а доктора можно было найти лишь в Зежске.
— Ну что ж, Ефросинья, — сказал Куликов, потирая густо наросшую на щеках жесткую щетину. — Не знаю, найдешь ли ты кого в городе... время такое. Спросишь, укажут больницу-то. Вот опять сунули в председатели калеку и продохнуть не дали, а чего я могу? Душа кровью исходит, только одна надежда, — на баб с детьми... А надо, какой поворот с немцем учинили, — слегка разгорелся он, но тотчас, вспомнив, зачем у него Ефросинья, оборвал себя. — Ладно, машины у меня нет, а лошадь иди запрягай, передашь конюху, верно, Володька Рыжий будет, я велел. Да уж лучше завтра с утра, а сейчас куда, на ночь глядя?
Ефросинья вернулась домой, сказала обо всем свекрови; та, совершенно уже ослабевшая, подняла на нее глубокие отрешенные глаза, не понимая, чего еще от нее хотят и почему не оставят в покое хоть сейчас, когда ей уже ничего больше не нужно.
— Беда какая, Фрось, — слабо шевельнула она серыми потухшими губами. — Не поеду я, господь простит, вот что придумали... Каки доктора, каки доктора? — спросила она в тягостном недоумении, и в голосе у нее, словно в защиту за незаслуженную насмешку, прозвучала обида, и она сурово, колюче глянула в глаза Ефросинье. — Отвяжитесь от меня, умру и здесь, неча по казенным углам таскать.
— Господи, мамань, да что ты говоришь? — Ефросинья придвинула стул, села рядом, сразу улавливая неприметный, какой-то затхлый запах и думая, что надо бы кого позвать на подсобу да искупать свекровь. — Поедем. Кулик лошадь дает, завтра с богом и поедем, доктора, гляди, найдем, пособит.
— Где ты его найдешь, доктора? — недовольно спросила бабка Авдотья и отвернулась; особые, важные мысли жили в ней отдельно от Ефросиньи, от всего остального мира, и они занимали ее больше, чем собственная болезнь.
— Истомилась я, обрыднело все. — Бабка Авдотья слабо шевельнула маленькой головой, вкладывая в это движение всю свою огромную усталость от долгой жизни. — Каки теперь доктора помогут? И без их, сердешных, отойду потихоньку, что уж ученых людей попусту дергать. Никуда я не поеду, Фрось, не тревожь меня перед смертью. Вот бы причаститься...
Ефросинья начала было протестовать и доказывать, что не по-христиански вот так-то родного человека бросать в беде, без присмотра, хитро повернула разговор на внуков, думая хоть этим расшевелить к жизни свекровь, но бабка Авдотья и на это не отозвалась; она теперь внешне и к внукам относилась отчужденно, издалека. Они уже были большие, и ей неловко было перед ними за свою слабость и за свою нечистую болезнь, и братья чувствовали это состояние бабки Авдотьи и близко к ней не подходили; завидев их еще на пороге, она поднимала бессильные руки, махала.
— Идите, идите, вам-то в духоте зря томиться негоже, идите на улицу, на солнышко... Господи, мне бы ваши ноженьки, я бы счас, кажись, весь мир облетела, — говорила она и украдкой смахивала скупую слезу.
Она так и не поехала в город, и Ефросинье пришлось отправиться туда самой, в тайной надежде отыскать доктора и хотя бы попросить совета, если не удастся привезти его к свекрови; Ефросинья захватила с собой и деньжат, сунула их в грязной тряпице за пазуху между грудями. Она и в самом деле нашла больницу в одном из полуразрушенных зданий на главной улице Зежска, располагавшуюся в подвалах, нашла и доктора, очкастого, усталого старичка с острой бороденкой, кончик которой он то и дело теребил во время разговора. Ефросинья еще раньше узнала, что его звать Иваном Карловичем, и сейчас, боясь забыть, то и дело твердила это чудное имя про себя; козел, прямо-таки козел, подумала она, сбивчиво и неясно разъясняя старичку суть дела, и тот, под конец поняв ее, поняв, что где-то в селе за двадцать верст умирает старуха и что вот эта баба с широким лицом хочет, чтобы он туда ехал, неопределенно пожевал вятыми губами.