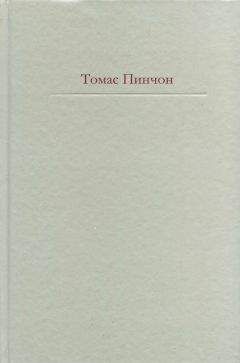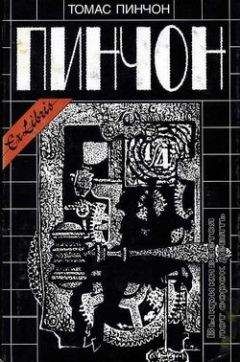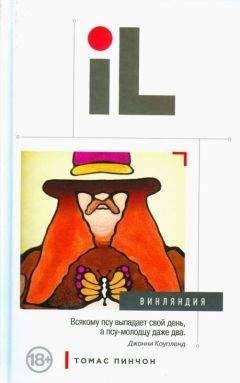Роджер расстегнул ширинку, извлек член и теперь деловито ссыт на блестящий стол, на бумаги и в пепельницы, а вскоре — и на самих этих непроницаемых людей, кои, хоть и слеплены из управленческого теста, хоть мозги у них и срабатывают от легчайшего нажатия, все равно не вполне готовы признать, что это действительно происходит, понимаете, в том мире, который реально, во многих точках касается того, к которому привыкли они… а пролитие теплой мочи, если вдуматься, довольно приятно: струя орошает галстуки по десять гиней, творческого вида бородки, брызжет в печеночно-испятнанную ноздрю, на армейские очки в стальных оправах, окатывает вверх-вниз накрахмаленные манишки, ключики «Фи-Бета-Каппы», медали Почетного Легиона, ордена Ленина, Железные Кресты, кресты Виктории, часовые цепочки в честь выхода на пенсию, значки «Дьюи в президенты», торчащие служебные револьверы и даже обрез у кого-то под мышкой…
— Стрелман, — хуй, упорный, раздраженный становится на дыбы, словно дирижабль в фиолетовых облаках (очень плотно фиолетовых, как фиолетовый бархатный ворс), когда сгущается тьма и морской бриз сулит трудную посадку, — вас я приберег напоследок. Но — батюшки-светы, у меня, похоже, и мочи-то не осталось. Ни капельки. Мне очень жаль. Вам вообще ничего не достанется. Вы меня понимаете? Даже ценой моей жизни, — слова просто вырвались, и, может, Роджер преувеличивает, а может, и нет, — вам нигде ничего не светит. Что вы получите, я заберу. Если подниметесь выше, я приду и стащу вас вниз. Куда б вы ни двинулись. Даже если вам выпадет минута покоя с отзывчивой женщиной в тихой комнатке, я буду у окна. Я вечно буду где-нибудь снаружи. Вам никогда меня не стереть. Выйдете вы — я зайду и оскверню вашу комнату, населю призраками, и вам придется искать себе другую. Если останетесь внутри, я все равно войду — буду гнать вас из комнаты в комнату, пока не загоню в угол. Вам достанется последняя комната, Стрелман, и придется жить в ней весь остаток вашей паскудной, проституированной жизни.
Стрелман не желает на него смотреть. Не хочет встречаться взглядами. Того-то Роджер и хотел. Охранная полиция прибывает антиклимаксом, хотя заядлым любителям погонь, кои смотрят на Тадж-Махал, Уффици, Статую Свободы и думают только: погоня, погоня, у-ух, да-а во как тут Даглас Фэрбенкс скачет по лунному минарету, — этим увлеченным гражданам может быть интересно нижеследующее:
Роджер ныряет под стол застегнуть ширинку, и рьяные топтуны прыгают друг на друга над столешницей, сталкиваясь и ругаясь, но Роджер улепетывает на подуровне конской шкуры, сапожных гвоздей, полосатых брючных манжет, маминых носков в ромбик, а заговорщики сверху — рискованный перегон, любая нога пнет без телеграфного уведомления и сотрет в порошок, — пока не прибывает обратно к лысому стальному магнату, хватает его за галстук или хуй, смотря за что ухватиться проще, и сдергивает мужика под стол.
— Так. Теперь будем отсюда линять, и вы — мой заложник, ясно? — Он возникает из-под стола, волоча синевато-багрового управленца за галстук или хуй, тянет его, как ребенок санки, удушенного и апоплексичного, в дверь, мимо модально-необычайной радуги часовых дамочек, кои теперь хотя бы выглядят устрашенными, а на улице воют сирены: МАНЬЯК СРЫВАЕТ НЕФТЯНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ Выдворен После Того, Как По-На Участников, а он уже вынырнул из лифта, бежит по заднему коридору к комплексу центрального отопления вжжик! через головы пары черных истопников, которые передают друг другу самокрутку с какой-то западноафриканской наркотической травкой, сует заложника в гигантскую печь, вычищенную по весне (очень жаль), и сматывается через черный ход по аллейке платанов в скверик, через забор, фунтики-фьють, быстроног Роджер и лондонская охранка.
В «Белом явлении» ничего нужного не осталось. Все можно бросить. Одежда на тушке да моцык из гаража, карман звякает россыпью мелочи, сам весь пыжится неоскудной яростью, что еще требуется 30-летнему простаку, чтоб не пропасть в большом городе? «Я же, блядь, натуральный Дик Уиттингтон! — соображает он, пролетая по Кингз-роуд, — я приехал в Лондон! я ваш лорд-мэр…»
Пират дома и, по всей очевидности, ожидает Роджера. На трапезном столе разложены части верной «мендосы», сияют маслом или вороненьем, руки заняты тампонами, лоскутами, шомполами, пузырьками, но глаза устремлены на Роджера.
— Нет, — прерывая обличение Стрелмана, едва всплывает имя Милтона Мракинга, — это мелочь, но вот тут остановись. Стрелман его не подсылал. Его подослали мы.
— Мы.
— Ты новичок-параноичок, Роджер, — Апереткин впервые назвал его по имени, и Роджер тронут — в аккурат хватает, чтобы осечься. — Само собой, всесторонне разработанная Они-система необходима — но это лишь полдела. На каждых Их должны найтись Мы. В данном случае мы и нашлись. Творческая паранойя означает разработку Мы-системы столь же всестороннюю, что и Они-система…
— Погоди-погоди, во-первых — где «Хейг и Хейг», будь уж любезным хозяином, во-вторых — что такое «Они-система», я ж тебе теоремой Чебы-шёва мозги не полощу?
— Я имею в виду то, что Они с Их наймитами-психиатрами называют «бредовыми системами». Незачем уточнять, что «бред» всегда официально определен. Нам о реальном и нереальном беспокоиться не нужно. Они выступают только с позиций целесообразности. Важна система. Как в ней располагаются данные. Одни последовательны, иные распадаются. Твоя мысль о том, что Мракинга подослал Стрелман, на развилке свернула не туда. Если б не противоположенный бредовый комплект — набор бредовых заблуждений о нас самих, который я называю Мы-системой, — эта мысль про Мракинга могла бы оказаться здравой…
— Заблуждений о нас самих?
— Не реальных.
— Но официально определенных.
— Ну да, с позиций целесообразности.
— Ну, тогда ты играешь в Их игру.
— Пусть это тебя не заботит. Можно неплохо функционировать, вот увидишь. Поскольку мы еще не выиграли, особой проблемы нет.
Роджер в совершеннейшем смятении. В эту минуту забредает не кто иной, как Милтон Мракинг с каким-то черным, в котором Роджер узнает одного из двух травокуров в котельной под конторой Клайва Мохлуна. Черного зовут Ян Отиюмбу, и он — связной Шварцкоммандо. Появляется какой-то подручный апаш Блоджетта Свиристеля со своей девкой — та не столько ходит, сколько танцует, весьма текуче и медленно, танец, в котором Осби Щипчон, выскочив из кухни без рубашки (и с татуировкой Поросенка Свинтуса на животе? И давно это она у Щипчона?), правильно засекает воздействие героина.
Все это несколько сбивает с панталыку — если вот она, «Мы-система», почему ей не хватает ума хотя бы сцепляться разумно, как Они-системы?
— В том-то и дело, — вопит Осби, танцем живота растягивая Свинтусу широченную, пугающую улыбу, — рациональны тут — Они. А мы ссым на Их рациональные комбинации. Не так ли… Мехико?
— Ура! — кричат остальные. Отлично завернул, Осби.
У окна сидит сэр Стивен Додсон-Груз, чистит «стен». Снаружи Лондон сегодня чует на себе передовые ознобы Строгой Экономии — ими задувает в его дорсальной и летней недвижности. В голове у сэра Стивена — ни единого слова. Он самозабвенно драит оружие. Уже не думает о жене своей Норе, хотя она там, в какой-то комнате, в окруженье, как водится, этих планетарных медиумов и нацелена к некоей удивительной планиде. В последние недели она истинно мессианским манером постигла, что подлинная личность ее — в буквальном смысле Сила Тяготения. Я Гравитация, я есть То, с чем борется Ракета, чему покоряясь, доисторические пустоши преобразуются в самое сущность Истории… Ее кружащие уродцы, ее провидцы, телепортеры, астральные странники и трагические человечьи стыки — все знают о ее явлении, но никто не понимает, куда ей обратиться. Теперь она должна проявить себя — глубинно от себя отказаться, глубже, нежели отступничество Шабтая Цви пред Блистательной Портой. В такой ситуации временами отнюдь не исключен добрый розыгрыш-другой — бедненькую Нору заманивают на сеансы, какие не одурачат даже вашу двоюродную бабушку, ее навещают типы вроде Роналда Вишнекокса в прикиде Иисуса Христа: он просвистывает вниз по тросам в пятно от маленького ультрафиолетового прожектора и там давай светиться в весьма сомнительном вкусе, лопоча бессвязные куски Евангелия, и из своих распятых поз тянется помацать Нору за стиснутую поясом задницу… в высшей степени оскорбленная, она сбежит в вестибюли, полные липких незримых рук: полтергейста засорят ей туалета, воспитанно-дамские какашки закачаются на водах у ее девственного вертекса, — а она, крича фу, с жопы каплет, пояс сполз до колен, ввалится в собственную гостиную, но и там не укрыться, нет, кто-то материализует ей слоних-лесбиянок в позе 69, склизкие хоботы симметричными поршнями ходят туда-сюда в сочных слоновьих вульвах, а когда Нора ринется прочь от сей кошмарной эксгибиции, обнаружится, что некий игривый призрак защелкнул за нею дверь, а другой вот-вот двинет ей в лицо холодным йоркширским пудингом…