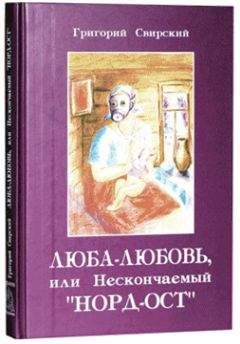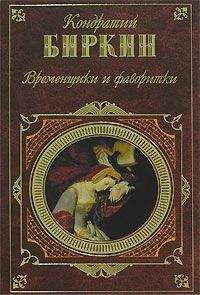– Сегодня двадцать восьмое октября, – сказала она. – Вот ты и поправилась…
Я была в сознании несколько часов. Потом воздух из легких будто выкачали, что-то захрипело и все снова исчезло.
Очень редко сознание возвращалось на секунды, и я видла мать – она всегда, казалось, спокойно стояла в углу, в том же синем платье, с крестом.
За окном лежал снег ослепительной белизны. Машина загоняла воздух в легкие, иглы в руках и ногах не давали двинуться.
– Ты выкарабкалась, – услышала я. – Тебе трижды делали реанимацию…
Не разговаривай, ладно? – Мама упиралась чуть трясущейся рукой в подоконник, будто боялась упасть.
– Ты меня извини, я за две недели… не присела.
Рядом стояла вторая постель, но она еще несколько дней оставалась нетронутой.
Вскоре меня отцепили от всех этих штук, я начинала дышать сама, но воздуха в палате почти не было – так мне казалось. Кислородные подушки немного помогали. Окна разрисовало морозными цветами. Я первый раз выглянула из палаты. В холле, около мраморной лестницы, стояли кадки с пальмами, а над ними алело длинное полотнище. Большими белыми буквами было написано: «Медицина – это не только наука, но доброта и любовь к человеку.»
Как тут не вспомнить Тоню:
«Чем царь добрей, тем больше льется крови…»
Иногда мне кажется, что я пережила самое себя или пронеслась к какой-то другой галактике – сквозь тысячу световых лет. Связь времен распадается в памяти, потому что на моей родной планете ничего не изменилось.
По крайней мере в городе Москве.
Это неважно, что я все еще в больнице. Институт Профессиональных Заболеваний имени профессора Обуха – прекрасная клиника Академии Медицинких Наук. Врачи – чуткие и внимательные– утешают меня, как ребенка. Но где-то в другой галактике есть тайные задворки со зловещей приставкой СПЕЦ: СПЕЦотделы. СПЕЦтюрьмы. СПЕЦОбух…
И там я была Рябовой, рядовой гражданкой страны, где, как поется в самой известной советской песне, «так вольно дышит человек». Могу ли забыть этот «не существующий» СПЕЦ, где больных со всего размаха бьют по щеками и НИКОГО НЕ ЛЕЧАТ…
«Может быть, руки заживут…»
Пузыри срезали, на их месте остались красноватые пятна, которые постепенно покрываются темными струпьями. О лице я вспоминаю только, когда появляется Сергей.
* * *
Пройдет время, и я узнаю, что происходило в тот день. После звонка из университетской поликлиники, Коля сказал Пшежецкому, что я его сестра и перечислил военные титулы семьи Рябовых. Пшежецкий ответил, что Рябова – иногородняя студентка, живет в общежитии, незамужем, учится на четвертом курсе. Имени он просто не помнил. Так обнаружилась ошибка.
Пшежецкий разговаривал по телефону с моей матерью…
Его трудно было понять – он доказывал, что не знал какая я Рябова. Коля, наш Платэ-младший тут же обратился к начальству с просьбой немедленно отправить меня из «Обуха», о котором он имел представление, в Военно-Медицинскую Академию.
Однако академик Каргин, заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений и, ПОД ЕЕ МНОГОЛЕТНИМ ПРИКРЫТИЕМ, исследованием «БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ», ответил ему отказом, сославшись на строгий запрет вышестоящих инстанций. Кто мог запретить академику Каргину? Военный министр? Многомиллионный договор с военными, где несомненно был и пункт о «продаже» студентов для испытаний любых отравляющих веществ? Страх подлинного расследования его многолетних «научных действий»? Скорее всего…
Всезнающий Коля, по его словам, потому и был вынужден не говорить моим родителям, что хлорэтилмеркаптан страшно опасен для жизни.
Профессор Альфред Феликсович Платэ, импульсивный и несговорчивый-Платэ-старший, был отправлен в командировку в тот же день, в течение двух часов. Он уехал, не попрощавшись даже с любимой сестрой, моей мамой, не ведая, что произошло.
Куда больше мамы, больше всех нервничает мой муж.
– Боюсь, что шрамы останутся, – Он достает сигареты и уходит в коридор.
Зеркало в палате закрыто огромным календарем, привезенным из какой-то экзотической страны. Моими руками его не сдвинуть. – Я ничего не могу сделать. Поэтому мама всегда рядом, теперь она даже спит на соседней койке. Календарь она обещала снять только в следующем, возможно, более мирном шестьдесят девятом году.
– Муж у вас просто красавец! – ахают сестры. – Такой внимательный, посмотрите: вся палата в цветах. Сестра делает укол и уходит. Покурив, Сергей возвращается.
– Скоты! Загубить такое лицо! Хорошо еще, что я запомнил это чудовищное слово: хлорэтилмеркаптан, иначе…
Ложка в руках у мамы начинает подпрыгивать.
– Коля? – Обычно я не задаю ей вопросов: у меня мало сил. Кроме того, мне и так ясно: Коля знал, куда меня отправляют и что такое хлорэтилмеркаптан, почему он не бился головой о стенку?
– Ты забыла, что твой Коля спит и видит себя членкором Академии Наук Эс-Эс-Эр. Ради этого он душу дьяволу продаст, а не то что двоюродную сестру, с которой с младых ногтей… эх, да что там…
– Я звонил ему каждые полчаса, чтобы узнать насколько опасен этот хлор… как его?.. – раздраженно повторял Сергей. – В больницу к тебе не пускали, охраняется, как Кремлевский Дворец. И я места себе не находил… Но твой братец, как сквозь землю провалился… Когда я объяснил его секретарше,что мы родственники, и он мне позарез нужен, кто-то ответил за нее: ушел к начальству… В восемь часов вечера его аспирантка испуганно сказала: «Еще не вернулся от начальства.» Его домашние объясняли, что он задерживается на работе и будет поздно.
– Я ничего не понимаю… Как же Сергей узнал, что я в больнице?
– Хватит строить иллюзии, – взорвался он, – грош им всем цена, трусы, навозные жуки. Что твой милый братец, что знакомые моего отца с Лубянки-матушки…Ну, да ладно, мне пора в райком партии. Надо самому лезть повыше, чтобы эти сволочи с потрохами не проглотили.
Сергей надевает пиджак из модного в тот год материала «ударник», целует меня в волосы и долго смотрит на лицо.
– Узнай у врачей нельзя ли как-то…излечить кожу, – вздыхает он и уходит.
Я встаю, иду к зеркалу, но вижу… календарь. И здесь вместо зеркала заморский календарь. Глаза ищут знаменательную дату всей моей жизни – октябрь четырнадцатого 1968 года…
«Четырнадцатое…» Голова кружится, не могу найти числа…Неважно, в конце-то концов. Важнее, что там, за календарем…
– Рано, – говорит мама. – Теперь все зависит от времени.
Где-то я это слышала…
Теперь все зависит от зеркала. Не все, конечно,но очень многое.
Если локоть сильно прижать к календарю и потянуть его вниз, все станет ясно.
– Зачем? – слышу я. И будто провалившись сквозь зеркало, вламываюсь в прошлое.
Это мое лицо. Мои глаза, рот, нос – даже морщины не появились. Все как было…
Позднее, вглядываясь в зеркала и скользя по времени, стала понимать, что начала обдирать, порой начисто, свою толстую, толще, чем слоновья, кожу беспечной эгоистичной девушки, которой ни в чем не было отказа…
– Когда ты узнала, что я в больнице? – Мне нужно соединить мир в единое целое из слов и осколков памяти, но мысли кружатся, будто снег и сор за окном.
– Ложись, я все расскажу! – Плечи у мамы опускаются, как под тяжелой ношей. – Во вторник, пятнадцатого октября, я собиралась к тебе. – Мы договорились в воскресенье, помнишь?.. Я поехала из ГИТИСа прямо к тебе, но когда твоя разлюбезная свекровь открыла дверь, я сразу почувствовала что-то недоброе. Лицо у нее было, мягко говоря, кислое, а в прихожей стоял какой-то странный запах. Я зашла к тебе в комнату – на неубранной постели лежали тетради и перчатки; щетка для волос валялась на полу среди рассыпанной пудры. Кольца и часы брошены на телефонный столик.
– «Люба заболела, лицо и руки в пузырях, будто ошпарилась»,– сказала дорогая свекровь и принесла твой халат. Она держала его брезгливо, двумя пальцами, а по комнате полз запах тухлого чеснока. В этот момент зазвонил телефон, и я взяла трубку.
Мужской голос спрашивал, с кем он может говорить о Рябовой.
– С ее матерью, – ответила я.
Это был Пшежецкий, От него узнала, что ты в Институте Обуха, потому что сломалась вентиляция, а вещество вредно для кожи. Но говорил он так, будто вот-вот лишится рассудка, дважды повторив, что он не знал, какая ты Рябова, что он не виноват, что произошла ужасная ошибка. Он кричал, что ты никогда не упоминала ни о муже, ни о семье Платэ… – Все это было похоже на истерику. Когда он спросил меня, правда ли, ЧТО Я РОДНАЯ СЕСТРА АЛЬФРЕДА ФЕЛИКСОВИЧА, я решила, что он просто сумасшедший, и на этом разговор был окончен. Я помчалась в институт Обуха. Но к тебе не пускали. Один день мне объясняли, что тебе вредно присутствие посторонних, другой, что врачи опасаются инфекций с улицы, потом, что у вас в палате карантин. О твоем здоровье отвечали расплывчато: «не знаем, посмотрим, будет видно». Сергей услышал обо всем от меня еще во вторник и стал разыскивать Колю, но тот позвонил сам около часа ночи. Успокаивал меня, убеждая, что вещество действует только на кожу и как-то странно посочувствовал: «Ужасно досадная история!».