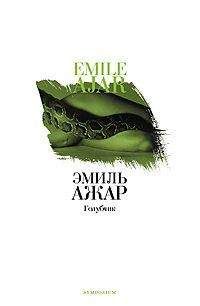— Бум! Сердце стучит в груди![8]
— Вы бы мне такого не сказали, если б я была молодой и красивой! — с обидой выговорила немолодая личность.
— Бум! Сердце стучит бум-бум! — оглушительно утешал ее попугай.
Дама дала ему орешек и, поднеся к глазам платок, улыбнулась сквозь слезы. И тут попугая заклинило.
— Бум-бум, бум-бум! — заладил он.
— И расцветает любовь! — подсказала хозяйка.
Но попугай молчал, словно проглотил человеческий язык, и только жалобно смотрел круглыми глазами на братьев больших. Не попугай, а мокрая курица.
— Бум-бум! — беспомощно проквохтал он наконец и забился в корзинку.
У меня защемило сердце.
— Я держу удава, — сообщил я даме, чтобы она поняла, что мы с ней в каком-то роде одного поля ягоды. — Он перенес уже несколько линек, но все равно остается удавом. К сожалению, такие проблемы пока неразрешимы.
К нам подошел хозяин «Рамзеса», взял деньги, которые я положил на столик, и сказал, что по радио передали, будто бы на южном направлении, у Жювизи, образовалась пробка километров на пятнадцать. Я горячо поблагодарил его. Ведь тем самым он дружески подразумевал, что на других направлениях пробок нет, все пути открыты, свободны вплоть до горизонта возможно. Рядом со мной сидела славная седовласая женщина, видно было, что жизнь ее прошла в тяжких и бесполезных трудах. В лучшем случае она имела мелкую лавочку или что-нибудь в этом духе. Довожу сие до сведения Ассоциации врачей как факт, имеющий отношении к вопросу об абортах и священном праве на жизнь.
И тут я вспомнил плакат с правилами оказания первой помощи, он висел напротив, на стене дома по улице Дюкре, там были фотография и все указания, как делать искусственное дыхание рот в рот угоняющим и другим пострадавшим. Так вот, делать это надо как можно скорее, дорога каждая секунда, но обычно все равно бывает слишком поздно, поди распознай утопающего в уличном потоке. Демографический поток — это вам не амурные волны: течение в парижском метро так сильно, что запросто утонешь и следа не останется. Я понял: немолодую даму надо спасать рот в рот — телефонной сети в таком деле, как искусственное дыхание, доверять нельзя. С точки зрения общественной безопасности и культуры это — искусство, требующее вдохновения. Между тем попугай смотрел на меня круглыми глазами, в которых сквозили обида на непонимание и ожидание ответа. А дама продолжала улыбаться из глубины корзинки, но мы уже все друг другу высказали, исчерпали общую материю, остались лишь смущение и неловкость. Тем не менее, чтобы дама не подумала, будто я потерял к ней интерес по тем же причинам, что и все прочие, я с присущей мне находчивостью подхватил сказанное хозяином «Рамзеса» относительно пятнадцатикилометровой пробки на южном направлении, у Жювизи. Причем постарался придать голосу твердость, чтобы внушить даме, что остальные пути открыты, — не хотелось оставлять ее в беде. Потом перешел к статистике и большим числам, чтобы она поняла: в таком великом множестве всегда есть шанс на рождение и возрождение. Примеров сколько угодно: пораженные филлоксерой виноградники снова плодоносят, министр здравоохранения неустанно заботится об увеличении поголовья отечественного рабочего скота во Франции (так он сам писал в газете «Монд», впрочем, вполне вероятно, что это был министр сельского хозяйства, ошибка же возникла из-за смещения ценностей или упущения в наборе), а недосмотр властей или утечка при абортах могут спо собствовать рождеству Человека — подобно тому, как это имело место на заре нашей эры. Я безостановочно работал ртом, накачивая жертву, но усилия разбивались о подавленный взгляд из корзинки. Что ни говори, а убитый горем попугай — это нечто превышающее человеческие силы.
* * *
Прежде чем вернуться в лифт и описать произошедшее там грандиозное событие, я должен заскочить сам и забросить читателя к себе домой, поскольку в мое отсутствие Голубчик выкинул коленце, которое сначала выбило у меня почву из-под ног, а потом восстановило против меня всех жильцов. Впрочем, нет, пожалуй, забегать вперед не стоит, не то обилие пусть даже самых искусных извивов вокруг да около предмета могут оставить у придирчивого читателя ощущение сумбура и затянутого узла. Пусть все идет своим чередом. Итак, поведаю сначала о счастье, обрушившемся на меня в лифте. Едва оторвавшись от земли, мадемуазель Дрейфус посмотрела мне в глаза, ослепила улыбкой и с мягким акцентом родных берегов спросила:
— Ну что ваш удав? Как он поживает?
Это был уже второй после знаменательной встречи на Елисейских полях откровенный знак внимания с ее стороны.
У меня потемнело в глазах, как всегда, когда перехватывает дух, и целый этаж я прочищал горло, пока не смог говорить спокойно, не рискуя усилить ее смятение, — юные негритянки впечатлительны и пугливы, как газели.
— Благодарю вас, — сказал, — живет как может.
Конечно, надо бы сказать: «Спасибо, он живет отлично», но то-то и оно, что я не хотел создавать у нее впечатление, будто все хорошо и без нее. Мне ясно представился кадр из передачи «Жизнь животных»: вспугнутая газель срывается с места и исчезает в джунглях. Поймите меня правильно: на грани срыва долгожданное событие приобретает огромную важность.
— Живет как может. Развивается нормально. Вырос за год на два сантиметра.
Нам оставалось всего два этажа, чтобы все высказать друг другу, и я замолк со всей доступной мне невыразимостью. Обычно для внушительности я ношу темные очки, как кинозвезда, чтобы не приставали поклонники на улице, но в тот день в приливе этакой мушкетерской лихости — где наше не пропадало! — не надел их. Поэтому мог досыта выражаться обнаженным взглядом и высказал Иренэ все, что накипело. Верьте слову, взгляд мой пел, как хор и скрипка с оркестром, вместе взятые. Никогда в жизни не был я так счастлив в лифте. Я выпустил из глубины корзинки убитого горем попугая. Казалось, кровавые бифштексы во всех мясных лавках города обрели наконец право голоса и тоже запели хором. Это так резко подняло престиж домашнего скота в глазах потребителей, что стала наконец очевидной разница между бараном и человеком. А во мне что-то родилось или, по крайней мере, что-то выкипело.
Миновали Бангкок, Сингапур, Гонконг, а кабина все поднималась. Мне приходилось читать, что роды могут начаться где угодно, например, в поезде, самолете, такси, но как-то не верилось — мало ли что напишут, да и опечатки сплошь и рядом. Мадемуазель Дрейфус в кожаной мини внимательно смотрела на меня. И я чувствовал, она видит насквозь тайники моей души: затравленного попугая в корзинке, белую мышь в коробке, удава в два метра двадцать сантиметров и двадцать узлов в час, которому я служу единственным посредником. Смотрела и улыбалась, а лифт возносился, должно быть, в заэтажную высь. Только заметив, что он снова на первом и, кроме меня, в кабине никого нет, я очнулся.
Но главное ждало меня впереди. Не успел я все-таки подняться к себе, как в кабинет вошла мадемуазель Дрейфус с чашкой кофе, в рыжей кожаной мини и того же цвета сапогах. Она прислонилась к моему IBM и, помешивая ложечкой кофе, спросила:
— Нельзя ли как-нибудь взглянуть на этого самого удава?
Я не растерялся. Когда видишь, что кто-то хочет выплыть, умей бросаться в воду. Человек терпит одиночество — это бедствие я знаю не понаслышке и откликаюсь с первого зова. Движимый инстинктом самосохранения, я нырнул не раздумывая:
— Ну конечно. Заходите к нам на чашку чая, когда вам будет угодно. Не забиваться же в корзинку, как я тут видел одного попугая с дамой. Приходите, мы всегда рады.
— Что, если в субботу? Часов в пять?
— В пять! — звонко отчеканил я. — Договорились.
Мадемуазель Дрейфус вышла. По-моему, мир спасет женственность, по крайней мере в моем случае так уж точно. Бывают, я знаю, противные случаи: например, в нашем доме, шестой этаж, вход со двора, живет некий господин Жальбек, так у него в шкафу висит немецкий мундир со свастикой. Я пишу о нем, чтобы заполнить паузу, образовавшуюся после ухода мадемуазель Дрейфус.
Не знаю, сколько времени я простоял как громом пораженный, но, должно быть, много. Чтобы прийти в себя и сесть, понадобилось расслабиться через силу, да еще не очень-то я был уверен, в себя ли пришел. Я вдаюсь в подобные детали единственно потому, что на свете, несомненно, бессчетное множество таких же безнадежно фантастических романов, как мой, и я хочу поделиться опытом с себе подобными, протянуть им руку помощи.
Домой я летел на крыльях, спеша обнять Голубчика и пуститься с ним в пляс, — на радостях во мне взыграла вакхическая струя.
Но Голубчика дома не оказалось. Он пропал. Исчез. Испарился бесследно. В моей двух-комнатушке нет угла, где он мог бы от меня спрятаться. Я знаю наизусть, куда он заползает, когда не в духе. Под кровать, под кресло, за занавеску. Но ни в одном из этих мест его не было.