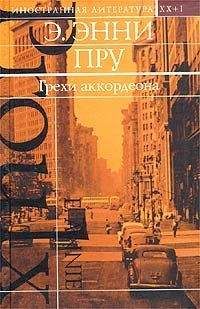Вечером, когда они сидели за столом и тыкали вилками картошку, в окно вдруг влетел камень и стукнулся о стоявший на плите чайник.
– Чтоб тебя раскололо, – выругался Бетль. Камень был обернут в страницу из «Похоти преподобного Ньювела Дуайта Хилла», печатавшего порнографические истории о зверствах германцев в Бельгии. Толстым карандашом было подчеркнуто: «Немецкая кровь – ядовитая кровь».
– Это явно работа О'Грэйна. Разве нет? Господи Иисусе, что за злобный сукин сын. Знаете, почему ирландцы так похожи на пердеж? Во-первых, много шума, во-вторых, непонятно откуда, в-третьих, воняет. Ему подожгли поле. Сто акров горелой пшеницы. Бетль шел по обугленной земле, с каждым шагом подкидывая в воздух головешки, но пройдя сто футов, закашлялся, лицо стало черным, как уголь. В воскресенье, когда он назло всем опять отправился в город, банда мальчишек и юнцов с криками «немчура!», «ебаный дойч!» и «насильник!» забросала его камнями.
– Я купил облигации Займа свободы! – орал он им. У нас там мальчик. Мой сын, Вид Бетль, он родился здесь, в Прэнке. – Лошадь под ударами камней сперва отступила, потом попятилась и наконец галопом понеслась к дому. У Бетля слетела шляпа, а один из камней попал в челюсть и сломал отличный германский зуб, остатки которого в конце недели Лотцу пришлось тянуть злодейскими зубоврачебными щипцами. Бетль сидел весь в поту, плевался кровью и изредка шипел:
– Rauch ich in der Pfeife!
Однако, этой же ночью Герти, наконец, смягчилась и позволила ему взгромоздиться на себя, несмотря на то, что запах крови у него изо рта тут же напомнил ей историю с куриным гнездом, а также, что вместо девиза «Боже, благослови наш Дом», на стене теперь висел ее собственный «Боже, прокляни нашего Изменника». Бетль не заметил подмены.
Надвигалась полоса несчастий. Младший сын Мессермахера разбился насмерть, упав с верхушки стога – шестнадцать футов, сломанная шея, но он хотя бы не мучился, не умер такой нелепой смертью, как Вид Бетль – в дальних краях, на их прежней родине, в Германии – умереть в Германии от раны в паху! В декабре 1917 года бьющая фонтаном кровь превратилась в черную лужу и приморозила к земле его ягодицы. (Шестнадцать лет спустя под мышиной обложкой австралийской «Истории Великой Войны» появилась фотография без подписи, на которой были изображены его заляпанные грязью ботинки и негнущиеся ноги.) Лотц подружился со странствующим скрипачом, и тот прожил у них неделю – жрал, как людоед, пока однажды перед рассветом не удрал, прихватив с собой все деньги, которые нашлись в доме.
– Наверняка цыган, – сказал Бейтль.
Сам Лотц как-то утром упал без чувств, когда плохо повязанный бандаж пережал ему бедренную артерию – у него уже давно кружилась голова. Без бандажа паховая грыжа болталась до середины ляжки и непристойно торчала из трусов. Стеная, он доехал до Кригеля и в задней комнате знакомого аптекаря купил другое устройство, от которого тоже все болело, но иначе и на некоторое время как будто становилось легче. Когда боль усилилась, он обвинил во всем аптекаря – грека с куском мрамора вместо головы.
Летом, когда война уже закончилась, с двумя внучками Бетлей, одиннадцатилетними близняшками Флореллой и Зеной произошла странная и страшная история. После полудня мать видела, как вместе с тремя девочками Мессермахеров они играли под старой вишней, где вечно копались куры, добывая из земли насекомых и устраивая потайные гнезда. Когда пришло время ужинать, Герти вышла на крыльцо и крикнула:
– Essen! Kommt [49]! – сзывая Перси Клода, все его семейство и нескольких работников – работниц они больше не держали – ужинать вместе с Герти и Бетлем. Но дети за стол не явились, даже когда Бетль, потеряв терпение, сам отправился их звать.
– Пусть остаются голодными. Они наверное у Мессермахеров разрисовывают себе физиономии. – После ужина Перси Клод с женой, приехав на телеге к Мессермахерам, застали семейство за столом, но близняшек с ними не было.
Они играли в саду в «Кухню холостяка», сказала Томалина, самая старшая из трех девочек, потом они стали играть в «Реки» – текли через сад, сливались друг с другом и впадали в загон для свиней, который считался у них океаном. Под конец решили поиграть в «Черного Паука», Флорелла была слепнем, Зена стрекозой, а Томалина – мухой-поденкой. Грини была сразу матерью и нянькой, потому что для правильной игры им не хватало людей, а Риббонс – черным пауком. Теперь заговорила Риббонс, а взрослые сердито уставились на нее.
– Я сперва поймала слепня, то есть Флорену, и положила ее на траву, потом ушла и поймала Зену и тоже положила на траву рядом со слепнем, потом опять ушла и поймала Томалину и тоже положила на траву, но мухи уже все улетели. Мы подумали, что они хотят играть в прятки, и стали искать, но никого не нашли, и тогда мы рассердились и пошли домой.
– Значит вы никого не видели?
– Нет.
– Неправда! Я же вижу, как ты кусаешь палец. Кто там был?
Грини заплакала.
– На дорожке. Два больших медведя куда-то убегали.
– Здесь не бывает медведей.
– Значит собаки. С короткими хвостами, они увидели меня и спрятались в нору! – После жутких криков Мессермахера все отправились к дорожке и в уже наступивших сумерках принялись искать следы (не нашли), нору (не нашли), и тогда заставили девочек разыграть всю сцену заново. Мессермахер лупил дочерей, требуя сказать, что они видели на самом деле, а не морочить голову собако-медведями, но Герти вздрогнула, вспомнив, как десять лет назад, а то и больше, в такие же вот густые сумерки она искала в траве гнезда несушек, а потом, на этой самой дорожке, увидала колесо от сенокосилки, а на нем громадного черного человека – он сидел на колесе и выдувал из ноздрей дым, который перед тем, как раствориться в воздухе громко щелкал, как будто лопался рыбный пузырь.
Всю ночь три германца прочесывали территорию, фонари качались в темноте полей, как лодки в штормовом море. Ничего, ни единого следа. Как вдруг перед самым рассветом Бетль услыхал на дороге стук колес – потом звук смолк и через несколько секунд раздался снова. Бетль подошел поближе и в бледно-желтом утреннем свете обнаружил, что по дорожке, прихрамывая, бредут девочки: в волосах запутались листья, платья порваны и перепачканы. Они были босые, без штанишек, на бедрах кровь, и, несмотря на все мольбы, ни слова не могли сказать о том, что же с ними произошло. Лишь истерически рыдали и клялись, что ничего не знают. Только что они играли в саду, а уже секунду спустя, дрожа, брели по темной дороге. Между собой Бетль, Лотц и Мессермахер сошлись на худшем: из города приехали американцы, усыпили девочек хлороформом и изнасиловали, решив таким образом отомстить германцам за Бельгию.
Всего этого оказалось слишком много для Перниллы – через полгода после того, как вышла за Лотца, она слегла от какой-то внутренней хватающей боли, не снимавшейся никаким эликсиром (Лотцу не везло на жен). Пернилла кричала, что Бетль сам изувечил своих внучек, понятно как. Потом притихла. Промолчав неделю, она повредилась рассудком. Вышла в поле с картофельными вилами, принялась выкапывать беспорядочные ямы – она расшвыривала по сторонам стебли и землю, и так уходила все дальше и дальше, пока не превратилась в еле заметную точку на темной пашне. Вернулась она незаметно для всех, направилась прямиком к Бетлю в сарай и стала тыкать в него стальными зубьями.
– Господи боже, рехнулась баба! А эти идиоты еще хотят пустить их голосовать.
Доктор государственной больницы записал все в журнал, сфотографировал Перниллу в апатичной стадии.
– Улучшение маловероятно, – безразлично сказал он, ему наскучили сумасшедшие женщины. Половина баб в этой стране была явно не в своем уме.
– Хотела бы я тоже так свихнуться, – сказал Герти, зайдя к Пернилле и оглядев свежеокрашенные бежевые стены. – Ни о чем не думать, лежать себе в чистой палате, ни забот, ни хлопот, теплая постель, обед приносят – а что, разве плохо? Отдохнуть наконец от всего. Говорят, здесь даже кино показывают. А так отдохнешь от жизни только если умрешь.
Но через месяц Пернилла вернулась домой, правда с твердым убеждением, что по ночам из города приходят американцы – отравлять колодец. Эти мысли появились у нее после демонстрации, которую она видела в Прэнке, пока ждала Лотца, – в изношенной пролетке, стыдясь своих тусклых заколотых волос, неряшливого платья, стоптанных башмаков и старого безумного лица. Демонстрацию устроили женщины из Христианского Союза Борцов за Трезвость; они маршировали вокруг судебной палаты – со вкусом одетые американские женщины, многие с короткими стрижками, в светлых льняных платьях и белых туфлях с ремешками вокруг лодыжек. В руках они несли плакаты: ПЬЯНСТВО – ЭТО ПРОКЛЯТИЕ ИММИГРАНТОВ и НАСТОЯЩИЕ АМЕРИКАНЦЫ – ЗА ЗАПРЕТ, а еще СПИРТНОЙ ДУХ УБИВАЕТ ДУХ АМЕРИКАНСКИЙ. По ночам Лотц слышал, как она встает, на ощупь бродит по темной комнате и вглядывается в темные окна, не мелькнут ли там предательские фонари американцев. На столе она оставляла записку: «Не пей Wasser [50]». Днем говорила: