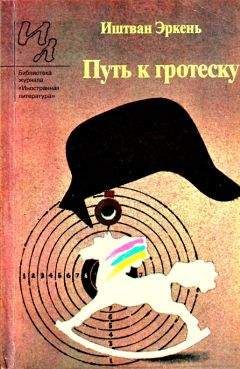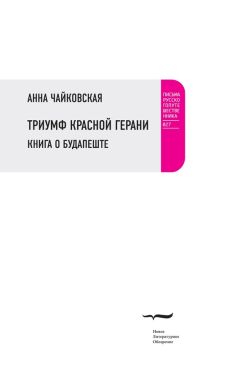И тут мама Роза тяжело запыхтела.
Нет-нет, не пугайтесь! Это отнюдь не было предвестником сердечного приступа, просто мама Роза прикусила губу и пыталась дышать носом.
— А, чтоб им пусто было! — неожиданно закипая гневом, воскликнула она.
И встала с постели. Пыхтя, прошлась по комнате. Меня охватил ужас. Она шагала поступью боевого коня, но целью ее оказался шкаф. Мама Роза отворила его, вытащила оттуда белье и платье и оделась. Я попыталась помочь ей, но она оттолкнула меня.
— Что вы собираетесь делать? — спросила я.
— На обратном пути сын еще раз заглянет сюда, — сказала она. — Вот и отправлюсь восвояси.
Она кончила одеваться и присела в кресло. Взгляд ее снова уперся в окно.
— Выходит, господин профессор — врач неважнецкий? — спросила она.
— Напротив, он врач лучше некуда, — сказала я.
— Значит, как человек, непорядочный? — спросила она.
— Все это не так просто, мама Роза, — сказала я.
— Ладно, я ведь тоже разбираюсь, что к чему, — сказала мама Роза. — Наверно, я зря хлопотала за него перед сыном?
— Наоборот, вы сделали очень доброе д ело, — заверила ее я.
Она опять встала и принялась укладывать в чемодан свои
вещи. На сей раз дозволила мне помочь ей. Две банки компота, стоявшие между оконными рамами, торжественно вручила мне. И снова села, уставясь в окно. В палате слышно было только ее пыхтение.
— Одному я рада, — чуть погодя воинственным тоном заговорила она.
— Чему же вы рады?
— Что о вас я тоже успела рассказать сыну.
— Обо мне? Но что именно?
— Правду, — отрезала она с видом, не терпящим возражений. — Что ты, детка, тут самый порядочный человек из всех.
Ну вот, я уже и в «детки» попала, и удостоилась обращения на «ты». Поверьте, я была отвратительна себе в ту минуту.
— И видишь, до чего я права оказалась, — продолжала о на. — Ведь я как раз и говорила сыну, что…
— Прошу вас, мама Роза, — насилу произнесла я, потому что голос у меня прерывался. — Пожалуйста, не надо меня хвалить.
— Говорить правду — не значит хвалить, детка моя.
— А что, если я вовсе того не заслуживаю?
Мама Роза многозначительно прищурилась.
— Зато мой сын считает по-другому. Он сказал, что на обратном пути хотел бы познакомиться с тобой. Надеюсь, ты рада, детка.
Я встала.
— Мне надо идти, — сказала я. — Дядюшке Холлендеру плохо.
И я сбежала.
У истеричного Холлендера всегда было множество жалоб на самочувствие, однако в больницу он лег лишь затем, чтобы иметь возможность целыми днями рассказывать там о своих болезнях. Сегодня на очереди были неполадки с мочевым пузырем. Сидя у его койки, можно было обозревать весь коридор. И вот я увидела вдруг, что там вокруг чемодана мамы Розы выстроились трое: товарищ Ш., старшая сестра Белла и мама Роза. Вся троица смотрела на меня, и разговор шел явно обо мне. Затем старшая сестра направилась в мою сторону.
По счастью, в палате было два выхода. Я не дала Холлендеру докончить фразу, прошмыгнула в задний коридор, а оттуда — во вторую женскую палату. Старшая сестра Белла, не заметив меня, поспешно прошла мимо. Я чуть подождала и выбралась из палаты, но к тому времени старшая сестра успела пройти коридор до конца, повернула обратно и увидела меня.
— Доктор! — крикнула она.
Я сделала вид, будто не слышу; из-за посетителей шума вокруг хватало. Свернув в проход между коридорами, я попала в тот, который тянулся вдоль заднего фасада, и прибавила шагу, потому что старшая сестра тоже преследовала меня весьма проворно. По узкой лесенке в конце коридора я взлетела на второй этаж, снова обогнула все здание, а затем по главной лестнице спустилась опять на первый этаж и направилась к своей комнате. По коридору я почти бежала и тут впопыхах налетела прямо на товарища Ш.
Он был совсем не такой, как на телеэкране: во-первых, меньше ростом, а во-вторых — совершенно седой. У него на лице тоже виднелось несколько родинок, но совсем маленьких, словно они были детьми кустистых украшений мамы Розы. И те же, что у нее, голубые глаза, и та же улыбка, от которой в уголках глаз и рта собирались морщинки, точно их нитками тянули книзу.
— Доктор Орбан, если не ошибаюсь? — спросил он.
— Да, это я, — с трудом переводя дыхание, ответила я.
— Я слышал о вас много хорошего, — сказал он.
И тут, как назло, я разревелась. Повернулась к нему спиной и с ревом бросилась бежать. Платка при себе у меня не оказалось, я размазывала слезы по лицу, и все это — на глазах у больных и посетителей, которые пялились мне вслед, на виду у санитаров, которые выносили тело старого крестьянина, и у старшей сестры Беллы, с которой мы столкнулись на лестнице, и у той уборщицы, которая вчера в полдень мыла окна в ларингологическом отделении. Все они, выкатив глаза от удивления, таращились мне вслед, а я с ревом пронеслась через весь коридор, взлетела по лестнице, захлопнула за собой дверь и повалилась на стол в кабинете Руди.
Через какое-то время раздался стук в дверь. Я подумала, что это товарищ Ш., и не ответила. Но дверь отворилась, и в комнате вспыхнул свет.
Это был не товарищ Ш. Вошла уборщица, которая мыла окна в ларингологическом отделении.
— Что случилось, доктор? — спросила она.
— Ничего не случилось! — сказала я.
Но мои слова прозвучали не слишком-то убедительно, поскольку сидела я впотьмах и с зареванной физиономией — на стеклянном покрытии стола собралась целая лужица.
— У меня ведь ко всем замкам есть ключи, — пояснила уборщица. — Вот ваш анализ, — сказала она и вручила мне желтый конверт.
Я встала. Вскрыла конверт. Прочла написанное. О, сладостная жизнь, сладчайшая из сладких! Да может ли быть что-нибудь сладостнее тебя!
— Что там написано? — спросила уборщица.
— Ничего не обнаружено, — сказала я.
— Можно взглянуть? — поинтересовалась она.
— Разве вы в этом разбираетесь? — спросила я.
— Это я-то? — спросила она.
Она прочла результат анализа. Сказала, что поздравляет меня. Затем оглянулась по сторонам и придвинулась ко мне поближе.
— У меня на всякий случай припасена сливовая палинка, — шепнула она. — Ежели человек страху натерпелся, то беспременно помогает… Принести?
— Спасибо, — сказала я. — Сейчас не хочется.
— А чуть погодя?
— Потом, может, и захочется.
— Я ведь тут живу, при больнице, — шепотом продолжала она. — От раздаточной аккурат направо.
— Еще раз благодарю, — сказала я.
— Как только надумаете, так в дверь и стукните, — сказала она.
— Спасибо вам за доброту, — сказала я.
Она махнула рукой и на цыпочках удалилась.
Какое-то время я сидела у письменного стола и ни о чем не думала. Затем прошла к себе в комнату. Сварила кофе. Затем сходила в душ и с головы до пят переоделась во все чистое. После этого я вернулась в кабинет Руди и выкурила американскую сигарету. Я попыталась читать, но понимала текст только наполовину, будто каждое второе слово было лишено смысла. Битый час я проторчала над книгой, а затем неожиданно вдруг придвинула к себе телефон и по междугородной вызвала общежитие музыкантов имени Ференца Эркеля. Все время, пока я мучила себя чтением, я чувствовала, что мне необходимо еще что-то сделать, вот только я не знала, что именно.
В трубке долго никто не отзывался. Наконец подошел кто-то, очевидно комендант общежития. Начал разговор он очень сердито, но после первой моей фразы: «Говорит доктор Илдико Орбан из витайошской районной больницы», сразу же подобрел. Когда среди ночи раздаются звонки из больницы, тут настолько попахивает смертью, что даже и разоспавшемуся человеку становится не до сна.
Комендант отправился за Никосом, но в комнате его не обнаружил. Я поинтересовалась, где он может быть; собеседник ответил, что понятия не имеет. По счастью, у Руди был будапештский телефонный справочник.
Я позвонила в бар «Ривьера». Там Никоса не было. В «Табан». Там его тоже не было. И в «Алабаме» тоже. Все эти разговоры проходили отнюдь не гладко: мне приходилось выдерживать упорные бои, прежде чем удавалось втолковать его имя. «Менелай Никос Евангелидес» звучит чрезвычайно красиво, но для швейцара или гардеробщика, да еще по телефону — не слишком-то вразумительно.
Я прозвонила половину месячной зарплаты, когда наконец в одном ночном заведении у меня переспросили:
— Это такой чернявый, что ли?
О Никосе точнее и не скажешь. У него все черное: волосы, глаза и густо разросшиеся брови. Голос его звучит, как гонг в темной глубине. И в объятиях его у меня делалось черно перед глазами, словно сверху опускался бархатный траурный балдахин.
— Ах ты моя шладкая-шладкая, — сказал он.
Должно быть, он изрядно выпил. Он почти безукоризненно говорил на нашем языке, но стоило ему выпить, и он путал звуки «с» и «ш».