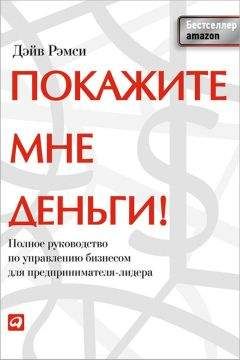«Вот всегда со мной так, – подумала Тина, до боли в глазах рассматривая блестящий след за окном. – Сделаешь доброе дело, так непременно останешься в дураках, еще над тобой же смеются! И как же я теперь одна в совершенно пустом самолете? Топливо когда-нибудь кончится, и он рухнет на землю!»
Она не подумала, что может разбиться вместе с самолетом. Она пыталась представить, как сделать так, чтобы самолет, падая, не причинил никому на земле никакого вреда. «Нужно направить его в воду!» – подумала она, и перед ней внизу сразу возник океан. Она ясно различила, что на воде в этот момент полный штиль, а где-то вдалеке на горизонте маячит тонкая полоса светлого пляжа, и, будто маленькие каменные иголки, лежат в воде стрелы волнорезов.
«Пока не долетели до берега, надо успеть упасть!» – подумала Тина, и самолет, послушный ее воле, тут же вошел в пике и стал молниеносно терять высоту. Пол встал вертикально. Самолет завыл, загудел. В глазах горела нескончаемая, невыносимая, яркая слепящая вспышка. Тина зажмурилась, хотя ей не было страшно.
«Ну, еще немного, и все!» – решила Тина, но тут все ее мысли, чувства, видения сами собой куда-то исчезли, и остались только блестящая точка в глазах и странный гудящий звук. Он приближался, приблизился, стал неприятен, высок и навязчив, будто разрезал ее пополам. И вдруг воздух вокруг нее перестал быть фантастически легким и свежим, что-то знакомое и тяжелое проникло ей в грудь, она сделала вдох и неожиданно для себя осознала, что навязчивый звук – не что иное, как вой включенной на полную мощность сирены-мигалки машины «Скорой помощи». Она медленно открыла глаза и первое, что увидела, было чье-то искаженное лицо. Это был Аркадий Барашков, но Тина его не узнала и не стремилась кого-либо узнать. Говорить она тоже не могла, но слух ее был сохранен, и она услышала голос, показавшийся ей знакомым:
– Кажется, она приходит в сознание.
– Пустите, мне надо сделать укол, – сказал еще один голос, который был совершенно неизвестен Тине.
«Укол? Все равно… Уже ничего не страшно, – успела подумать она и даже почувствовала, успела почувствовать чье-то прикосновение, похожее на легкий щипок. – Хочу спать! Бесконечно спать, только чтобы не будили!» Через несколько мгновений наступила полная темнота.
Тина спала уже несколько часов, ее не тревожили ни сновидения, ни то, что ее куда-то несут, поднимают, опускают, кладут, просвечивают магнитными волнами, входят в вены, вставляют катетеры, подключают приборы, опутывают трубками, вливают и выводят жидкости и даже дышат за нее.
Впервые за несколько месяцев ей ничего не снилось. Она спала глубоким, прекрасным, медикаментозным сном.
Мышка, не включая света, сидела у себя в кабинете за чайным столом и в задумчивости доскребала мельхиоровой ложечкой последнее пирожное. Пирожное было любимое – пропитанная ромом шоколадная «картошка». Оставить ее на тарелке было выше Мышкиных сил. Рабочий день уже закончился, она могла уходить, но отчего-то все медлила, все чего-то ждала. Она даже сама оформила протокол консультации приглашенного к той самой пациентке с головной болью профессора-невролога, хотя это была обязанность Дорна – так у него появлялся лишний повод зайти к ней в кабинет, но Дорн не зашел. То, что он был еще в отделении, Мышка знала наверняка – несколько раз выходила и видела, что дверь в ординаторскую прикрыта, но не закрыта на ключ. В целом все было спокойно. Дневные сестры ушли. Ночные, заступившие на дежурство, занимались привычными обыденными делами. Пациенты не выходили из палат – у них было все, что необходимо для жизни: удобные ниши с телевизорами и мягкой мебелью для приема гостей, небольшие комнатки-кухни, где можно с удобством приготовить чай, сервировать стол. И если бы не функциональные кровати, стоящие посреди комнат-палат, да не бледные, болезненные лица пациентов, комнаты отделения больше напоминали бы отель, чем больницу. Маша решила перед уходом еще раз пройти по палатам, навестить каждого больного.
Их было немного, всех она знала наперечет, и все они лежали на своих местах.
Пациентка с головной болью спала при ярко полыхающих лампах. Жалюзи в ее комнате были закрыты. Она, как заметила Тина, предпочитала днем находиться в темноте, вечером же и ночью в ее палате ярко горел свет.
Муниципальный чиновник с недостаточностью кровообращения из соседней палаты рассеянно просматривал свежие газеты и мысленно готовился к небольшому совещанию, которое он запланировал на завтра и собирался проводить прямо здесь, в больнице.
Третьим был артист-гастролер, умудрившийся пятнадцать лет назад развестись с московской женой и жениться на красавице казачке. По совместительству этот артист, уже теперь достаточно пожилой обаяшка куплетист, оказался дальним родственником главного врача. Его поджелудочная железа не справилась с чрезмерным количеством съеденного и выпитого на гостеприимной московской земле. Напомнили о себе и камни, образовавшиеся в желчном пузыре еще при первой супруге. Куплетист лежал в отделении пятые сутки, сочинял на досуге иронические куплеты и теперь страдал уже не столько от капельниц (тяжеленный приступ ему сняли довольно быстро), сколько от сознания того, что впереди вместо посиделок с друзьями студенческих лет его ждет строгая диета, безалкогольное существование и нудная жена.
Четвертой пациенткой в отделении была восьмидесятилетняя Генриетта Львовна Зиммельбаум, которую три месяца назад привезла в отделение родственница, заплатившая Мышке на год вперед с явной надеждой на то, что больше денег платить не придется.
Действительно, при поступлении в отделение Генриетта Львовна была очень плоха. Теперь же, после нескольких месяцев лечения и ухода, ее состояние настолько улучшилось, что маникюршу она ждала с большим нетерпением, чем медсестру, и очень расстраивалась, что в ее палату редко захаживает доктор Дорн, с которым Генриетта Львовна обожала мило кокетничать.
Еще два места в отделении были пусты и ждали своих пациентов. Как говорил Дорн, пусть лучше койко-место останется пустым, чем оно будет занято неплатежеспособным пациентом, на которого будут затрачены впустую много усилий и средств.
Когда Мышка вошла, Генриетта Львовна у окна красила губы.
– Смотрите-ка, клен совсем сбросил листья! – сказала она, показывая Мышке на любимый клен Валентины Николаевны. – Печальное время – осень…
– Да будет вам, – ответила Мышка. – Вы сейчас в такой форме, что впору подыскивать вам жениха!
Генриетта Львовна зарделась:
– Вы вот так говорите, а Владислав Федорович глаз вторые сутки не кажет! А в отделении, кроме него, замуж выходить абсолютно не за кого! Не за того же отвратительного бугая, что глаз не поднимает от «Коммерсанта». И не за пошляка-куплетиста.
Мышка принужденно засмеялась:
– И когда это вы успеваете все замечать? Вроде целыми днями сидите у себя в палате.
– Не выхожу, да все вижу, – заметила Генриетта Львовна.
– А что вы скажете про Аркадия Петровича? – Мышка давно уже подметила, что Генриетта Львовна необыкновенно точна в суждениях.
– Ну, это богом данный доктор! – воздела вверх руки Генриетта Львовна. Они у нее были сухие, морщинистые, в пятнах и крупных старинных кольцах. – Его на такие пустяки даже грех отвлекать!
Маша обошла всех больных и вернулась в кабинет надеть пальто. У Дорна все еще горел свет. «Нехорошо, что он забывает зайти к бабульке. Все-таки она же числится за ним». Маша вздохнула. Она прекрасно знала, что Дорн ей ответит. Сошлется на то, что сейчас у бабульки стабильно хорошее состояние, а если вдруг и случится с ней что – его тут же позовут сестры… В общем, объясняться с Дорном – где сядешь, там и слезешь! Маша заперла свой кабинет и пошла в сторону бывшей ординаторской.
Владик Дорн, также, как и Генриетта Львовна, смотрел в окно. По пластику с остервенением барабанил дождь, и от капель ползли вниз неровные, дрожащие струйки. Они скользили, иногда перекрещиваясь, обгоняли друг друга, сливались, и, казалось, не было сейчас для Дорна ничего занимательнее этого бессмысленного созерцания.
В середине дня он позвонил Алле на работу.
– Как ты себя чувствуешь? – осторожно спросил он.
– Прекрасно! – Голос ее звучал с вызовом. – Имей в виду, что я с утра сходила в женскую консультацию и встала там на учет. Срок у меня тринадцать недель. Доктор посмотрела меня на УЗИ и сказала, что с большой долей вероятности у нас будет мальчик.
– Напрасно ты себя растравляешь, – тихо произнес он.
Алла положила трубку.
Дорн решил не думать пока ни о жене, ни о Райке, но сами собой непрошеные мысли то и дело лезли в голову. Тогда он решил, наоборот, упорядочить их, «разложить по файлам», как он сам себе говорил. Итог этих размышлений оказался абсурдным.
Он не хотел иметь детей пока в принципе – и оказалось, что сразу две женщины беременны от него. Кстати, обе уверяли, что предохраняются! Куда катится мир? Но если Аллу он все-таки надеялся, как всегда, уговорить подождать с рождением ребенка, то ситуация с Райкой выглядела намного хуже. Чем дальше он обдумывал их разговор, тем отчетливее понимал, что он оказался у Райки в руках. Если она правда все записала на диктофон, дело могло считаться решенным. Отдай Райка пленку Алле, та просто выгонит его. И с большой долей вероятности обе женщины родят от него по ребенку.