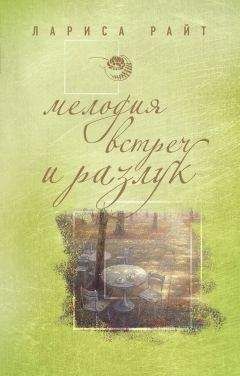Алина не отвечает. Больше они не разговаривают. Когда самолет отрывается от земли, девушка закрывает глаза, прячась во сне от тягостных воспоминаний.
Воспоминания не отпускали Михаила Абрамовича Фельдмана ни на секунду. Так же, как в годы ссылки, они приходили к нему по ночам в образе здоровой, живой, манящей за собой Тамары, а по утрам снова накрывали его, едва пробудившегося, взволнованного. Окатывали теплой волной детского смеха, прикосновением мягких пушистых кудрей к наждачным щекам, мелким бисером счастливой болтовни и сахарной пудрой наивных вопросов, которые начинались с неизменного, такого сладкого, все еще непривычного и желанного: «Папочка, а скажи…»
Теперь никто не стал бы укорять Зинаиду за время, потраченное на переписку с практически незнакомым человеком. Машин отец с первой встречи запоминался людям смелостью речей, неординарностью суждений и необычайной эрудицией. Даже Фрося, не признающая излишней обходительности и витиеватости в обращении, Фрося, считающая всех, прочитавших с десяток книг, «заумными и странноватыми», была покорена живым взглядом, быстротой реакции и тонкой, не всегда понятной ей иронией. Михаил Абрамович Фельдман, признанный властью диссидентом и сомнительной личностью, не достойной высокого звания советского человека, был безоговорочно принят всеми оставшимися в квартире жителями. Фрося не смела сказать плохого слова, потому как этот обиженный жизнью человек мало ел и плохо спал, а промаявшись бессонницей до пяти утра, снимал с крючка в коридоре ключи от дворницкой и шел убирать улицу.
— Мне все равно не уснуть было, а у вас давление. Так что давайте-ка, голубушка, вместо ЖЭКа в поликлинику отправляйтесь.
И Фрося возразить не решалась. Расшаркивалась, чуть не в реверансе приседала, бормотала нечто, ей вовсе не свойственное, сродни:
— Да что вы! Право не стоило беспокоиться. Большое спасибо.
Вышедшая на пенсию почтальон Валентина оценила Фельдмана как большого знатока редких марок. Ее коллекция, собранная за годы работы, была не слишком большой, но не лишенной изюминки в виде нескольких действительно редких экземпляров. На отдельных страницах кляссера среди множества беспорядочных серий флоры и фауны, которые можно было приобрести в каждом киоске «Союзпечать», бережно хранились: почтовая марка РСФСР 1923 года из серии «Филателия — трудящимся»; почтовая марка СССР 1924 года из серии «Помощь пострадавшему от наводнения Ленинграду» номиналом четырнадцать плюс тридцать копеек, сделанная из тонкой (папиросной) бумаги; пробная почтовая марка СССР 1934 года из серии «Памяти погибших стратонавтов» Васенко А.Б. стоимостью десять копеек, выполненная без перфорации, в измененном цвете, и почтовые марки РСФСР 1922 года «Юго-Восток — голодающим», выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону) — пробные марки, отпечатанные на этикетках от папирос «Сенаторские». Михаил Абрамович утверждал, что когда-то «крепко дружил с известным филателистом», а посему брал на себя не только смелость угадать реальную стоимость коллекции, но и предрекал последующий рост цены, называл Валентину «богатеньким Буратино» и в шутку просил упомянуть его в завещании. Валя смеялась, отмахивалась, но была польщена: кому-то было понятно ее увлечение, кто-то в нем разбирался. Конечно, разговоры о грядущем богатстве были пустыми, но приятными. Валентина бы удивилась, если бы узнала, что через тридцать лет ее внучатая племянница выручит за коллекцию три тысячи долларов, купит на эти деньги один рыжий полушубок из стриженой норки с собольим капюшоном и одну тонкую грязно-желтую свечу, чтобы поставить ее в ближайшей церкви за упокой своей щедрой родственницы, скончавшейся лет за двадцать до этого прекрасного дня.
Знал толк вернувшийся из ссылки литературный критик не только в повестях и рассказах, но и в музыкальных произведениях. Он помнил подробности биографии Баха и Моцарта, не путал Шуберта с шубами, слушал симфонии Шостаковича и играл на фортепьяно «Времена года», развлекая мам и бабушек, ожидающих детишек в вестибюле музыкальной школы. Такие способности не могли не растопить сердце суровой Галины, которую поначалу явление Фельдмана совсем не обрадовало, а скорее насторожило.
— Подаст в суд на отмену твоего опекунства.
— Сменит ребенку фамилию.
— Увезет девочку на другой конец города, а то и света.
Однако не случилось ни первого, ни второго, ни третьего. Опасения не подтвердились, неприязнь сменилась приветливостью. Появились слухи о возможной реабилитации диссидентов, культивировался лозунг «Сын за отца не отвечает», и Галина, не таясь, откровенничала с соседками о том, что не возражала бы против официального появления такого зятя. Фрося прижимала руки к груди, расцветала, обещала помочь со свадебными хлопотами. Радостно кивала, соглашаясь со всем, и почтальон Валентина. Только врач Антонина хмурилась, качала головой, будто хотела сказать: «Не знаю, не знаю», но не говорила, не считала возможным влезать в чужую жизнь. Зина вот влезла, а что хорошего? Самого Михаила Абрамовича Антонина Степановна уважала, как привыкла уважать любого образованного, неглупого и порядочного человека, ценила его знания, пользовалась советами и с удовольствием беседовала о прочитанных книгах, не страшась обсуждать с ним Пастернака, Бродского и Солженицына. Был он, по ее мнению, человеком глубочайшего ума, человеком воспитанным и не озлобленным ни жизнью, ни системой, человеком, обладающим огромным количеством неоспоримых достоинств и одним-единственным недостатком, который никоим образом не мог позволить Галине мечтать о свадьбе с ним своей дочери. Михаил Абрамович Фельдман оказался абсолютным, законченным однолюбом. И свою трагическую, нереализованную любовь к Тамаре он сумел преобразовать в безудержное, всепоглощающее, слепое чувство к маленькой Маше. Он жил ею, дышал ею, заботился о ней, и не было в его жизни места больше ни для кого и ни для чего, кроме литературных эссе, которые заняли прочные позиции в его душе задолго до появления в ней женщины и ребенка. Он любил свою дочь и не стал лишать ее людей, которыми она дорожила. Он любил свою дочь и остался жить там, где жила она. Он любил свою дочь и спал с женщиной, которую она называла матерью. Спал редко, подгоняемый обычным зовом плоти и лежащим рядом молодым телом. Спал, каждый раз ругая себя за несдержанность, мучаясь от вида робкой надежды, вспыхивающей в глазах Зинаиды во время близости и тут же гаснущей, когда он слезал с нее и, ни слова не говоря, будто единственное, что он мог произнести в этот момент, были путаные извинения, уходил из комнаты в кухню курить, плакать и высматривать на небе звезду по имени Тамара.
Со стороны выглядели они вполне счастливой семьей: талантливый ребенок, помешанная на этом ребенке бабушка, интеллигентные родители. Он, благодаря старым связям и преданным друзьям, нашедший сдельную работу сразу в нескольких изданиях, по-прежнему пишущий разгромные критические статьи в адрес современных авторов, принимаемый с восторгом читающей публикой. Она, распрямившаяся и похорошевшая, получившая высшее образование, место концертмейстера и уважение коллектива, принимающая радушно его многочисленных приятелей, слушающая с ними «голос Америки» и первые записи питерского рок-подполья. Каждый ощущал себя состоявшейся личностью. Он обрел свободу и вместо жалости тайную и открытую зависть друзей: молодая жена, мировая теща, практически гениальная дочь. Она получила осязаемое воплощение своей любви. Оба они теперь имели то, о чем не смели и мечтать, и оба были мучительно, непоправимо, бесповоротно несчастливы. Он чувствовал себя палачом, то смягчающим наказание, то вновь его назначающим. Она — голодной собакой, у которой постоянно отбирают только что брошенную кость. Они оба отчаянно, безрезультатно старались: он — полюбить ее, она — разлюбить его. Каждый ощущал себя одинокой планетой, потерянной во вселенной, каждый существовал в своем мире: он, балагуря и шутя, приобнимая ее за плечи, рассказывая в этот момент друзьям свежий анекдот или обсуждая новую острую карикатуру Ефимова, и она, склоняя голову ему на плечо и подпевая молодым музыкантам из пока мало кому известной группы «Машина времени». В действительности же единым целым ощущали они себя только тогда, когда превращались в родителей. Здесь один разделял чувства другого, обретал понимание, находил безоговорочную поддержку своим мыслям.
— Какая посадка головы! Ты посмотри, как грациозно она прижимает скрипку к плечу! — захлебывался от восторга Фельдман, глядя на дочь.
— Ты еще не то скажешь, Миша, когда она взмахнет смычком, — вторила Зина.
— Жду — не дождусь, когда ей позволят перейти от гамм к настоящим произведениям. Представляешь, как она будет играть Чайковского!