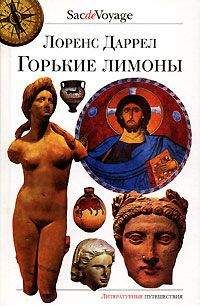Местоположение аббатства не откроется вам во всем своем великолепии, пока вы не войдете через великолепные врата, украшенные мраморными гербами, во внутреннюю обитель и не подойдете к самому краю обрыва, на котором она стоит: массивные окна трапезной служили рамами для усыпанных весенними цветами рощ и искривленных стволов пальм. Мы с Коллисом посмотрели друг на друга и улыбнулись. Он был слишком умен для того, чтобы даром тратить слова: воздать должное открывшемуся перед нами виду обычными языковыми средствами было попросту невозможно. Он ничего не стал мне рассказывать, да я и не хотел ничего знать. Мы просто прогуливались в дружеском молчании среди высоких и тонких колонн, смыкавшихся со сводом ажурным готическим плетением с обломанными кое-где гранями, среди резных гербов забытых рыцарей и пылающих яркими красками апельсиновых деревьев, пока не ступили под сень большой монастырской трапезной с высокими сводчатыми потолками, под которыми ласточки налепили гнезд: их негромкая оживленная перебранка казалась отзвуком дыхания, нашего собственного дыхания, уловленного этой необъятной зыбкой тишиной и усиленного ею многократно, без малейшего искажения. Я поймал себя на том, что повторяю, неосознанно и безостановочно — как эхо в морской раковине — две-три строки из «Комуса», который построен так же, как это волшебное место. Вот оно, незримое доказательство существования тех созерцательных сил, что управляют нашей внутренней жизнью. Беллапаис, даже в развалинах, была доказательством правоты тех людей, которые пытались, как умели, пускай несовершенно, поймать и зафиксировать ту внутреннюю ткань воображения, что пребывает в мысли, в созерцании, в том самом Мире, что вошел составной частью в исконное название деревни; сам я, в собственных писаниях, тоже всегда пытался удержать и сохранить Abbey de la Paix, искаженное венецианцами в Bella Paise… У меня почти год ушел на то, чтобы научиться правильно писать нынешнее ее название, Bellapaix, максимально близкое — если учесть все привходящие факторы — к исходному.
Впрочем, подобные мысли не посещали меня в то первое весеннее утро, когда я бродил среди пустых монастырских построек, лениво поглаживая розоватые камни древнего аббатства, с удовольствием замечая буйство цвета на любовно выпестованных Коллисом клумбах и, время от времени, — пробившиеся сквозь груду камней, успешно разломав очередную гранитную плиту, соцветья того самого желтого фенхеля, на которые обратила внимание дотошная миссис Льюис, написав с восторгом ботаника-дилетанта: «Это не что иное, как тот самый Прометеев нартек. Более всего он любит селиться на старых развалинах, разрастаясь здесь куда свободнее и гуще, чем на естественных скальных породах. По мнению Эсхила, именно в его длинном полом стебле, который еще долго остается стоять на прежнем месте, после того как усохнут и опадут цветы и листья, Прометей принес с небес на землю огонь, о чем сам же он и говорит в „Прометее прикованном“ в следующих строках:
Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ. [34]
В звенящей тишине с равнины легкими волнами набегал ветерок, полный негромких птичьих голосов: сами птицы то и дело взмывали над равниной вверх, чтобы тут же лечь на крыло и упасть вниз, к далекой ярко-синей бухте. Где-то совсем рядом журчала в шлангах родниковая вода, поливая клумбы.
— Если бы кроме этого здесь больше ничего не было, хватило бы с лихвой, — сказал Коллис, — но давайте-ка поднимемся чуть выше.
Он повел меня по осыпающимся ступеням вверх, туда, где веером развернулись крыши галерей и откуда нашему взгляду открылась новая, более широкая панорама, на восток и на запад. Пока мы поднимались, в поле зрения постепенно появилась Кирения и вместе с ней вся длинная, изрезанная заливами и бухтами, похожая на кружево береговая линия. Я уже начал испытывать чувство вины за безрассудную дерзость, заставившую меня поселиться в месте столь фантастическом. Разве можно надеяться, что ты сможешь делать хоть что-то серьезное, если каждый день перед тобой будет разворачиваться этакое великолепие? И эта причудливая смесь готического Севера и очаровательно-нежных Левантинских равнин, которые разбегаются по сторонам от Киренского кряжа, округлого, как лапа льва… Как только леди Хестер умудрилась упустить это аббатство из виду?
Мы вышли через огромные монастырские врата назад, на маленькую площадь, где нас ждала остальная компания. Группа успела пополниться двумя-тремя весьма импозантными пожилыми джентльменами, которых откровенно снедало любопытство к вновь прибывшему в деревню иностранцу: крепко сбитые старики-горцы, в неизменных сапогах, с морщинистыми лицами и роскошными длинными усами. Один из них, Мораис, был владельцем дома, стоявшего прямо над моим, он жил там вдвоем с молоденькой дочкой. Он буквально выстрелил в муктара несколькими довольно резкими вопросами, бросая в мою сторону острые взгляды, назвать которые дружелюбными было никак нельзя, после чего развернулся и потопал вверх по улице, ведя в поводу груженного мешками пони.
— Нужно будет вам как-нибудь с ним поговорить, — тихо сказал мне муктар. — Он человек неплохой, н-да, но, знаете ли, сейчас многие просто стали рьяными приверженцами Эносиса. Хотя — вы не принимайте этого близко к сердцу.
В дружеском расположении двух других мужчин сомневаться не приходилось. Андреас Менас был коричневым, как орех, с такими живыми и добрыми глазами, каких мне в жизни не приходилось видеть; ему было под шестьдесят, но каждое движение выдавало в нем невероятную подвижность и легкость, свойственную телу, которое благодаря беспрестанным физическим нагрузкам оставалось молодым. Рукопожатие у него было теплым и по-детски искренним. Жил он через дом от меня. Его одного вполне хватило бы, чтобы опровергнуть миф о врожденной склонности местных жителей к лени, поскольку когда, в конце концов, он нанялся ко мне работать, перестраивать и приводить в порядок дом, то трудился до самой темноты, а утром приходил без опоздания. И это несмотря на то, что каждую субботу он начинал утро с неизменной чашечки кофе под Деревом Безделья! Второй, Михаэлис, был огромен и усат, как пират или пенсильванский полицейский; сила у него была бычья, и при каждом движении массивная мускулатура буквально ходуном ходила под грубым матросским свитером, делая его похожим на старое, кряжистое, глубоко ушедшее корнями в почву дерево. Но сила эта не внушала опасений — и его медлительная застенчивая улыбка свидетельствовала о том, что человек он непосредственный и превыше всего ставит дружеские чувства. В роду у него, из поколения в поколение, все мужчины принадлежали к породе тихих и добродушных пьяниц, тех, чьи песни и смех звучат в местных деревенских тавернах; а как рассказчику равных ему просто не было.
Когда мы трудились перестраивая дом, он в обеденный перерыв уходил в тень лимонного дерева, прихватив с собой еду и бутылку вина, и принимался рассказывать истории, которые действовали на остальных рабочих магически — в буквальном смысле слова. Никто не принимался за дело до тех пор, пока история не была досказана до конца, — так что в итоге мне пришлось наложить на его дар строгое вето. С той поры в обеденный перерыв он удалялся в тень того же самого дерева, состроив укоризненную мину, и принимался оттуда дразнить остальных рабочих, которые постоянно клянчили, чтобы он рассказал им еще что-нибудь:
— Ну, Михаэлис, ну пожалуйста, расскажи историю, а? Хотя бы коротенькую.
— А как же босс? — спрашивал он в ответ, с лукаво посверкивая глазами в мою сторону
— Босс все слышит, — отзывался я. — Через полчаса опять за работу.
— Ну совсем коротенькую, — умоляли они.
— Если вам удастся уговорить босса, — отвечал он, — то я расскажу вам прямо-таки анекдот, про одного англичанина, который приехал в нашу деревню, чтобы купить дом, и про одну вдову, которая строила ему глазки…
Дружный смех.
— Расскажи! Ну, расскажи, а? — продолжали упрашивать они; к тому же хитрец умудрялся заодно заинтриговать и меня, и я порой ловил себя на том, что заодно со всеми уговариваю его не ломаться.
— Вот это номер! — громыхал голос Михаэлиса. — Сперва босс запрещает мне рассказывать истории. А теперь ему самому историю подавай! И это при том, что он сам писатель и зарабатывает деньги тем, что пишет истории!
Вот этот самый Михаэлис и высился теперь передо мной этакой махиной, улыбаясь и положив руку на плечо Антемоса, бакалейщика, чей маленький магазинчик стоял у самого подножья горы — у него мне впоследствии придется покупать продукты и горючее. Это был довольно тучный молодой человек, имевший склонность выражаться несколько старомодно.