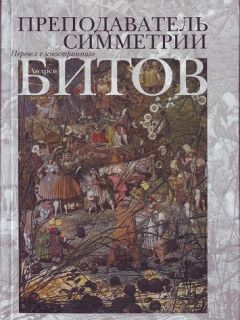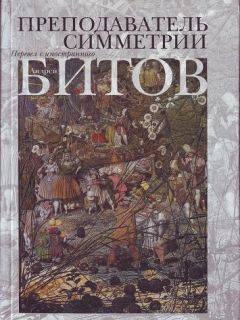И пока его снова душило и разрывало. Гумми был польщен, смущен и огорчен. Он уточнил, еще раз соединив пальцы в кружок:
— Вот это (то, что он показал) — кружок или дырка?
Доктор задохнулся и выпучил глаза. Смеяться он не мог, говорить и дышать тоже. Лицо побурело от крови и стало угрожающе синеть. Наконец он с облегчением выдохнул и, обессиленный, помрачнел. Он взглянул на Гумми по-новому; мысль, которую он не понял, не узнал, пронеслась по его лицу, и во взгляде появилось что-то от решения, которого он не принял; произошла некая бессловесная, неосознанная окончательность. Что-то кончилось. И во взгляде обозначилась та конечная боль расставания, которое — прощание, то есть — навсегда. Может быть, так смотрят на уже отрезанную ногу… почему именно ногу?.. ну, руку. Не все ли равно, когда ясно, что уже без.
Все это в докторе произошло, хотя он этого и не понял. Зато понял Гумми и испугался. Он ведь любил доктора. А всякая любовь живет чем-то, и куда ей деться, когда она уже есть, а и последней крошки этого чего-то больше нет?..
Расставание всегда обоюдно. Только один прощается с телом, а другой с жизнью.
Гумми смотрел на доктора со страхом. Поднял глаза на Джой — горе и боль окончательной догадки растерзали его душу. И он взглянул на доктора с ужасом.
— Вы не любите Джой… — прошептал он.
— Ступай вон! — студеным голосом сказал доктор. — Я не могу ответить на твой дурацкий вопрос.
И Гумми поплелся. Он обвел взглядом двор, поленницу — все потеряло смысл. Один… Опять один — но теперь он уже не мог снести этого.
Чистое сознание Гумми помутилось (мы не оговорились). Взгляд его укоротился и уплощился, черты обмякли, жалкая, завявшая улыбочка трепетала на губах; мысли толкались в несвойственной Гумми форме соображений. В каком-то смысле он стал более нормален — сообразителен. Привычное состояние человека — ощущать угрозу и избегать ее (выбегать из-под) — повергло его в паническую растерянность именно своей двусложностью. „Что-то надо делать, что-то немедленно предпринимать… Все не так страшно, все еще будет хорошо… — уговаривал себя он, и обреченная улыбочка выдавала его. — Доктор просто сердится на меня, что я не принес ему ничего с Луны… Я принесу ему веское доказательство, найду что-нибудь потяжелее. Он простит меня, и к Джой вернется его любовь. Он ведь на самом деле очень добр… Да, так, решено!“ — и Гумми распрямлял шаг, смотрел веселее — бодрился жалкой человеческой бодростью.
Доктор же не поспевал пером за мыслью, рукою — за пером, мощно уклоняясь от ответа на вопрос Гумми, что же такое О.
„Дух и материя совсем не различны и не суть гетерогенны. Предметы так называемого внешнего мира состоят из известных комбинаций и отношений тех же элементов ощущений и интуиций, которые в других отношениях составляют содержание души. Материальные вещи и душа частью, так сказать, сотканы из одного и того же основного материала“.
„Двоичность жизни или однозначность безумия?.. Трепет бытия или фанатизм идеи?.. Жизнь протекает в плоскости времени, волнуясь относительно этой плоскости по вертикали, касаясь чего-то свыше, и отходя, и снова касаясь… Трепеща и поблескивая двойным отражением. По сути, это образная система с обратным знаком: жизнь есть отражение образа. Образ и реальность… Как в поэзии, для рождения образа необходимо называние и снятие названия одновременно (чтобы течение было зафиксировано и не остановлено)…
Раздвоение есть условие цельности. Здоровая личность ясно раздвоена. А раздвоение личности как болезнь — это раскол однозначного, т. е. монолитного, твердого, но хрупкого отношения к действительности. Никакое насилие идеи или отношения не совместит в одну те две плоскости, относительно которых бытийствует любая частица. Естественное раздвоение находится в состоянии постоянного и неутолимого слияния: раздвоение как болезнь — есть торжество жизни над убогим стремлением найти в ней систему (не найдя, удовлетвориться промежуточной версией, уверовать в нее и потом, вспять, пытаться навязать жизни…) — естественная эрозия неживой природы…“
Доктор Давин, восхищенный, набрасывал пресловутую „омонимическую теорию“, отысканную в его бумагах после смерти и давшую дополнительную жизнь его имени в новенькой научной области, только что объявившей свою независимость, как очередное южноамериканское государство. „Омонимы потому и редки в языке, что их появление есть техническая накладка системы, та случайность, которая подтверждает закон. Омоним в двух лицах есть сошедшее с ума слово. Ибо каждое слово — омоним только самому себе. В каждом слове искрит раздвоенность на знак (остановку) и текущий смысл обозначенного (жизнь)“.
…Тем временем Гумми в деятельном возбуждении вышагивал по полю, высоко поднимая ноги, чтобы меньше тревожить застоявшуюся в траве жару. Из-под его ног порхали кузнечики. Он улыбался, он верил в удачу. Он нес в руках велосипедный руль.
„Другое дело — слова созвучные, — писал Давин, — они рождают неуловимую взаимосвязь понятий, снова растворяя их в жизни. Поэзия в этом смысле…“
Он совсем уже был готов сформулировать смысл поэзии, что, надо сказать, никому до него не удавалось, а следом за определением поэзии уже брезжило рассветом почти уловимое понятие „жизнь“… и мы также очень огорчены, что Гумми помешал доктору выразить это. Но доктор все-таки расстроился несколько больше нашего…
— Эт-то еще что такое?!?! — вскричал он.
С грохотом зацепившись о порог, в кабинет ввалился торжествующий Гумми с ржавым велосипедным рулем в руках.
— Это, — пролепетал Гумми, чуть озадаченный приемом, — я вам с Луны принес.
Доктор как-то расширился, раздулся и начал всплывать над столом, бесформенный, как туча.
— Нет, правда, он точно такой же… — лепетал Гумми, срываясь в пропасть отчаяния и цепляясь там за невидимые выступы судьбы. Но — все пропало. Раскаяние душило его. Впервые в жизни поступил он, как люди, не как он сам. И вот доктор сразу понял это — конечно, ведь он умнее всех на Земле… А ведь ложь Гумми была на самом деле такая крошечная и невинная…
— Я сегодня очень волновался и не мог лететь, — раскаяние признавался Гумми, — а в прошлый раз я видел на Луне точно такой же… Я все хотел что-нибудь прихватить и не находил ничего для вас интересного… А тут вижу: точно такой же… Я даже не уверен, не прихватил ли я его все-таки в прошлый раз…
Но доктор не слышал его оправданий. Он вообще ничего не слышал. Вечное определение поэзии испарилось навсегда. Злоба затмевала его.
— Я сейчас, я мигом… я настоящее принесу…
Доктор орал и не слышал себя. Гумми клубился перед ним, как наваждение, как безумие, коричневый туман… Вот он расплылся, и снова возник — с пропеллером будущего аэроплана в руках… А вот — с ногою огромного кузнечика, не меньше лошадиной…
И ничего не видя, протыкая слепые кулаки сквозь облако всхлипов и детского сопения, захлопывая дверь изо всех сил, запирая на ключ и вставляя в дверную ручку массивную трость-альпеншток, прикручивая его для верности бечевкой, Давин понемногу отходил. Но еще метался по кабинету, что-то не доделав в своей изоляционной работе… Бросился к окну, захлопнул и его с преувеличенной поспешностью, чтобы ветерком и молекулы не занесло, чтобы духу… Сорвал ноготь о шпингалет. И, прыгая на одной ноге, безобразно ругаясь и тряся пальцем, поймал взгляд Джой…
…И долго стоял он посреди комнаты, весь внутри пустой-пустой, и что-то тихонько тренькало в этой пустоте. Стоял вечно, не то час, не то секунду… Прозрачным сосудом подошел он, стараясь не задеть, не разбиться, к окну; бесшумно и плавно отворил его. Мир взглянул на него. Трава, солнечные пятна, поленница.
„На дворе — трава, на траве — дрова“, — подумал доктор.
Гумми на дворе не было. И Давин ощутил вокруг сердца такую непривычную, непонятную теплоту любви!.. „Гумми…“ — подумал он. И тут же это разогретое сердце сжало чем-то внешним, холодным, и что-то невидимо-чужое ударило снаружи по сжатому сердцу. Оно брякнуло внутри, как банка.
„Господи! только бы успеть, только бы успеть!..“ — молил доктор, запинаясь на бегу.
В участке его выслушали трижды: сначала Капс, который отослал его к Глумсу, а затем уже Глуме, отославший его к Гомсу. Гомс же вернул его к Капсу.
— Бревна! — шумел доктор. — Вы же ничего не понимаете. Вы должны объявить немедленный розыск. Он же может оказаться где угодно!..
— Итак, — сказал Капс, — что он у вас украл?
…Когда вечером, обессиленный от бессмысленных поисков, он возвращался в желтый замок, его встретила Кармен, уже наполовину растворившаяся в сумерках от долгого ожидания.
— Гумми… сказала она и протянула клочок. Давин вырвал из ее рук и долго близоруко водил бумажку перед глазами, пытаясь прочесть ее тут же, в темноте. Чиркнул спичкой…