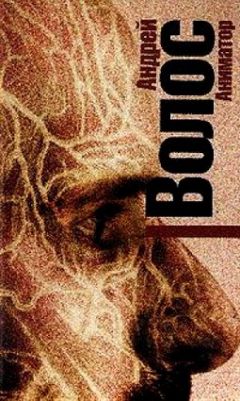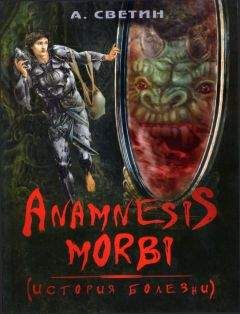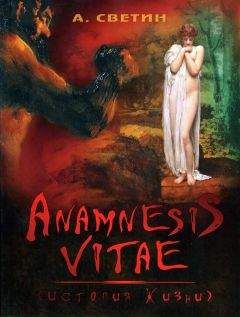Действительно, опыт показывает, что…
Веселый дребезг звонка.
Развожу руками:
— Обсудим это на следующем занятии. До свидания.
Все снова ожило. Зашумело, загудело. Вот даже кратко взвизгнуло.
Потекло.
Сую в папку свои бесполезные странички и смотрю на часы.
— Простите, Сергей Александрович…
Поднимаю голову.
Все тот же взгляд исподлобья. Смуглота гуще. Румянец, что ли?
— Простите, я кое-чего не поняла… А можно мне с вами отдельно?..
Ну, короче, типа позаниматься?
И нагло упирается в зрачки горящим взглядом черных глаз.
Да, несомненно, в ней есть что-то от Клары. Внешность? — нет, по-прежнему нет. Ничего похожего. Темные волосы — должно быть, жесткие. Смуглая кожа. Что-то неуловимо восточное в разрезе глаз.
Голос? Да нет же. Может быть, просто уверенность в себе? И тут нет:
Клара уверенна, но вовсе не нахальна… Стоп, да почему в ней обязательно должно быть что-то от Клары? Почему в каждой женщине я должен искать что-то от Клары? Зачем? Почему я не могу сказать себе раз и навсегда: Клара разлюбила тебя, Клара уехала, Клары нет и не будет; уж если она сделала так, значит так тому и быть; ты не думал о ней, ты не жалел ее, ты был эгоистом, ты подпиливал ее любовь, подкапывался под нее, закладывал мины; ты долго добивался такого конца своими идиотскими вывертами — и добился; а раз так, то стряхни с себя чертов морок!.. Но нет, проклятая прививка ее любви все еще действует: как будто что-то впрыснули в кровь, и теперь женщины влекут меня только в том случае, если в них есть что-то от Клары; а я хочу быть увлеченным и поэтому жадно ищу в них что-то от Клары, — но ни в одной из них нет ничего от Клары, черт бы их всех побрал! И я остаюсь равнодушен… то есть нет: я говорю нужные слова, затем я даже чувствую некоторое душевное волнение, некоторое телесное воодушевление; кроме того, я способен притвориться, будто мое волнение и воодушевление значительно больше, чем в действительности; и все идет как по маслу; но даже в тот момент, когда уже нежно проникаешь или яростно пробиваешься (впрочем, в данном случае ярость
— просто форма нежности; ха-ха, если не вежливости), все равно думаешь о Кларе, о Кларе!.. И это портит все дело, превращая его в набор механических действий с заранее известным финалом.
Коротко говоря, от Клары в ней не было ровным счетом ничего. Тем не менее она смотрела в глаза, едва заметно улыбаясь, и эта улыбка на темных вишневых губах не оставляла никаких сомнений насчет ее уверенности в себе. И в собственной неотразимости. Она ждала ответа.
Так полководец, стоя на холме с подзорной трубой, снисходительно ждет, когда над башнями осажденного города заплещут белые флаги. Но — увы, увы — в ней не было ничего от Клары. То есть она пыталась ввести меня в заблуждение. Она хотела выдать подделку за истинную ценность.
— Ах, типа позаниматься? — переспросил я. — Да ведь репетиторство такого рода стоит денег…
После чего повернулся и вышел.
И, даже если бы в ней было что-то от Клары, она не смогла бы сравниться с ней, как не может сравниться стакан соленой воды с морской волной. Ах, Клара, Клара!..
На меня накатило, и я шагал, не замечая встречных. Должно быть, я улыбался — вот почему кое-кто из них так странно поглядывал. Я и этого не видел… Как больно, как жалко мне вспоминать кусочки нашей счастливой жизни, полной милого озорства, заботы и радости! Как щемит сердце, когда я пролистываю запавшие в душу дни и ночи!
Осколки, блестки, мгновенные вспышки нежности и любви… Почему-то наплыло, как мы ездили в Питер. Надо сказать, Клара всегда умиляла меня тем, как деятельно хлопотала в постели о своем сексуальном благополучии. Она становилась совсем иной — в ней просыпалось маленькое суетливое животное вроде мелкой обезьянки или хомяка, и даже поволока любимых глаз казалась мне тогда не совсем человеческой. Я чувствовал, что в эти минуты несмотря на нашу близость Клара все же неуловимо отдалялась: она оставляла мне всего лишь тело, в то время как душа покидала его, чтобы взмыть в иные пространства. Отрешенная и чужая, бьющаяся в ритме собственного танца, она казалась усталым пловцом, который вот-вот коснется спасительного берега; за несколько мгновений до развязки с ее губ срывался бессвязный лепет, который я ни разу не сумел разобрать; сама же она, придя в себя, недовольно и сонно отвечала, что у нее не было и нет привычки чесать языком в такие моменты. Как правило, сладко пососав мой правый мизинец в знак благодарности и пожелания спокойной ночи, она тут же засыпала. Однажды она забыла свои любимые игрушки, когда мы на пару дней вырвались в Питер, и, обнаружив это, пришла в неописуемый ужас; я как мог успокаивал ее, но моя бедная девочка была безутешной, не верила обещаниям и отвергала попытки приласкать: твердила, что все равно ничего не получится, а она так мечтала об этой ночи — именно такой, в гостинице, на роскошной постели люксового номера, и чтобы у изголовья розы, а коридорная была бы вынуждена прислушиваться к ее кратким повизгиваниям. В ее возбужденном сознании окраска действительности не стала менее трагичной, даже когда мы, оглушенные дурной ресторанной музыкой, прекратили бесплодные споры и, допив спиртное, добрались до постели.
На мой взгляд, она просто вбила себе в голову эту глупость, а потом была вынуждена ей же и подчиниться; так или иначе ничего и в самом деле не выходило: давно получив свое, но продолжая принимать посильное участие в ее попытках добиться того же, я уже начал испытывать скуку и даже раздражение. Кажется, я задремал на секунду (так мне показалось) и проснулся от того, что Клара решительно толкнула меня, одновременно садясь и решительно протягивая руку к одежде. «Мне нужен по крайней мере массажер! — взвинченно сказала она, по-видимому, заранее ожидая моего протеста. — Вставай, поехали!» Перспектива вылезти из теплой постели, чтобы среди ночи тащиться на поиски секс-шопа, и впрямь не вызвала во мне никакого энтузиазма. Я пытался ее урезонить, но добился только слез.
Собирался дождь. Погода вообще оказалась довольно промозглой, а таксист — сонным и злым, и только необъяснимой вредностью петербуржца я могу объяснить его нежелание ехать за деньги туда, где, по его же словам, находился круглосуточный магазин. «Не поеду — и все! — буркнул он в ответ на мое «почему». — Вот еще!..» И отвернулся, показывая тем самым, что разговор окончен. Должно быть, его вывело из себя не ко времени пришедшееся осознание несправедливости мирового устройства: он должен в поте лица зарабатывать хлеб насущный, в то время как другие не могут найти себе иного занятия, кроме как, видите ли, в четвертом часу ночи гонять за вибраторами. Дождь разошелся не на шутку, и все вместе уже напоминало съемки какого-то идиотского кино для слабоумных. К счастью, второй таксист оказался настроен более философски. Мы разыскали лавку, под рассеянным взором лысого сидельца Клара придирчиво перебрала виниловые бебехи из тех, что казались ей наиболее подходящими, остановилась на паре самых ненатуралистических, я расплатился, и еще через двадцать минут, наконец-то пролепетав что-то в моих объятиях, она уснула умиротворенная.
Анамнез 4. Николай Корин, 34 года (начало)
Подполковник Корин проснулся за минуту до звонка будильника.
Он всегда, сколько мог вспомнить, — и в училище, и во все годы службы, — просыпался за минуту до побудки. Что-то тукало в голове — и Корин раскрывал глаза, сколько бы ни выпил накануне и как бы поздно ни лег. Один-единственный раз это замечательное свойство изменило ему — несколько месяцев назад, когда пришлось сопровождать генерала Саттарова в Москву, — и эта необъяснимая остановка или просто временная порча внутренних часов, исправно тикавших тридцать четыре года, стоила Корину полковничьих звезд. Опоздав на самолет и вынужденный тащиться назад в гостиницу дожидаться вечернего рейса
(летели гражданским бортом), Саттаров виду не подал — не орал, не бранился; посмеивался — Корин-то наш чут-чут ошибка давал: вместо ура караул кричал. Но когда через несколько месяцев пришли к нему документы на производство Корина в полковники, словно бы не обратил на них внимания: и подписать не подписал, и вернуть с какой-нибудь доделкой — тоже не вернул. Корин знал, что пробовать допытаться истины: как же так, товарищ генерал, что же вы это резину тянете? — самому или через близких к Саттарову дружков — дело совершенно гиблое: правды не скажут, будут жать руки, улыбаться, сочувственно кивать, развивая теории насчет того, в какой именно четверг после какого дождичка генерал возьмет да и подпишет, а пойди-ка дождись дождичка в этих гиблых краях!.. Понятно было, что в конце концов подпишет, никуда не денется, некуда ему деваться: такими офицерами, как Коля Корин, никто не бросается; однако проволочка раздражала тем, что заставляла плестись в хвосте событий, а плестись в хвосте событий Корин не привык: всегда его одним из первых и поощряли, и представляли. И с квартирой тоже: дружки еще в малосемейках кантовались, а Корин уже в отдельную двухкомнатную въехал. Всегда у него это получалось лучше, потому что армия живет по строгим законам, неукоснительно соблюдаемым, — это так должно быть; с другой стороны, если б все армейские законы соблюдались неукоснительно, так это уже не армия бы была, а тюрьма, и жить в ней даже самому дисциплинированному военному человеку не было бы никакой возможности. Поэтому всегда находится люфт — пространство, в котором только и существует воздух: глотки его окупаются дружбой, то есть исполнением возникающих обязательств: сделали тебе — и ты сделай, постарайся не за страх, а за совесть; ты сделаешь — и тебе сделают, не забудут. А глупая эта промашка с будильником — ну не завел будильник, пьян был, с тем же Саттаровым и пил; точнее, Саттаров пил с казахом Гельдыевым — встретились случайно в гостинице этой, будь она неладна, ну и зацепились языками на всю ночь… Близкие души, у обоих рожи, как сковородки: круглые; а Корин у них вроде ординарца… Короче говоря, неожиданная эта остановка внутренних часов поломала привычный ход жизни. «Лучше бы по морде съездил! — неприязненно подумал Корин на последней секунде дремы. — Русский человек так бы и сделал; я, Корин, точно бы так сделал: осерчал — так съезди по морде раза-другого, чтобы помнил, а сам забудь. Да что говорить, зверь — он и есть зверь!»