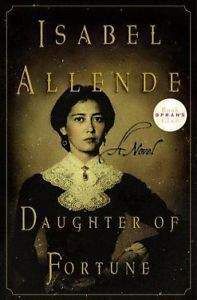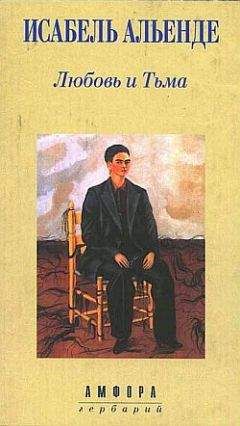Тем временем я зарабатывала на жизнь всеми известными мне ремеслами — шила, готовила, вправляла кости, лечила раны. Но тем, кто страдал от чумы, лихорадки, превращавшей кровь в патоку, французской болезни и укусов ядовитых тварей, которые водятся в тех краях в огромном количестве и от которых нет спасения, я ничем помочь не могла. Самой мне в наследство от матери и бабки досталось железное здоровье, позволявшее жить в тропиках и не болеть. Позже, в Чили, я относительно легко выдержала переход через раскаленную, как печь, пустыню, а затем переносила зимние ливни, во время которых грипп подкашивал даже самых крепких мужчин, и эпидемии тифа и оспы, когда мне приходилось пользовать заразных больных и хоронить их трупы.
Однажды, разговаривая с матросами одной пришвартованной в порту шхуны, я узнала, что Хуан уже довольно давно отплыл в Перу, куда устремлялись и многие другие испанцы, прослышав про богатства, открытые Писарро и Альмагро.
Я сложила свои пожитки, собрала все сбережения и села на корабль, отправлявшийся на юг, в сопровождении группы монахов-доминиканцев: разрешения ехать одной мне получить не удалось. Наверное, эти братья были посланы инквизицией, но я никогда у них об этом не спрашивала, потому что одно это слово тогда приводило меня в ужас, да и до сих пор страшит. Я никогда не забуду сожжение еретиков, которое я видела в Пласенсии, когда мне было лет восемь или девять. Чтобы они помогли мне добраться до Перу, я снова достала свои черные платья и приняла роль безутешной супруги. Монахи дивились супружеской верности, сподвигшей меня скитаться по миру вслед за супругом, который даже не звал меня к себе и точное местонахождение которого было мне неизвестно. Но на самом деле гнала меня вовсе не супружеская верность, а желание избавиться от состояния неопределенности, в котором оставил меня Хуан. Я уже много лет его не любила, едва помнила его лицо и даже опасалась не узнать при встрече. Да и оставаться в Панаме с ее нездоровым климатом и неуемным интересом проезжих солдат к женщинам мне вовсе не хотелось.
Мы плыли на корабле около семи недель. Все это время мы петляли по океану, повинуясь прихотям ветров: в те времена уже дюжины испанских кораблей ходили в Перу и обратно, но точные навигационные карты все еще оставались государственной тайной. И так как имеющиеся карты были неполными, то лоцманам каждый раз приходилось записывать все наблюдения, начиная от цвета воды и облаков и заканчивая мельчайшими подробностями контура берега, когда он находился в поле зрения: все это нужно было, чтобы улучшить карты и облегчить задачу другим путешественникам. Нам выпало пережить бури, сильные шторма, густые туманы, ссоры между членами команды и другие неприятности, о которых я не буду распространяться, чтобы чрезмерно не удлинять свой рассказ. Достаточно сказать, что монахи служили мессу каждое утро и каждый вечер заставляли нас читать молитвы, чтобы Господь усмирил океан и воинственные души людей.
Все путешествия опасны. Меня пугает необходимость отдаваться воле волн, плывя по бескрайнему океану в утлом суденышке и бросая вызов Богу и Природе, вдали от всякой человеческой помощи. Я предпочту оказаться в городе, осажденном свирепыми индейцами, что со мной случалось не раз, но не предпринимать больше морских путешествий. Поэтому мне никогда не приходило в голову возвращаться в Испанию — даже в те времена, когда исходившая от индейцев угроза была столь велика, что приходилось эвакуировать целые города и улепетывать, как мыши от кота. Я всегда знала, что мои кости будут покоиться в этой земле.
В открытом море, несмотря на постоянный надзор со стороны монахов, мне снова стали досаждать мужчины. Я чувствовала, что они ходят за мной по пятам, как стая собак. Может, от меня исходил запах самки во время течки? Запершись в своей каюте, я тщательно мылась морской водой, страшась этой своей силы, которую я вовсе не желала иметь и которая то и дело обращалась против меня. Мне снились волки, тяжело дышащие, с высунутыми языками и окровавленными клыками, готовые прыгнуть на меня все разом. Иногда у этих волков было лицо Себастьяна Ромеро. Я не могла спать и проводила ночи взаперти за шитьем и молитвами, не решаясь выйти на палубу успокоить нервы свежим ночным воздухом, потому что ощущала постоянное присутствие мужчин в темноте.
Да, я чувствовала угрозу и боялась ее, но вместе с тем она меня привлекала и завораживала. Желание было как бездонная пропасть, отверзавшаяся прямо у моих ног и манящая прыгнуть и окунуться в ее глубины. Мне были знакомы радость и буря страсти — я их переживала с Хуаном де Малагой в первые годы нашего союза. У моего мужа было множество недостатков, но нельзя отрицать, что он был неутомимым и изобретательным любовником, и поэтому я прощала его столько раз. Даже когда во мне не оставалось ни капли любви и уважения к нему, я продолжала желать его.
Чтобы обезопасить себя от соблазнов любви, я говорила себе, что никогда не найду человека, способного доставить мне такое наслаждение, как Хуан. Я знала, что нужно опасаться болезней, которыми можно заразиться от мужчин; я видела их последствия, и, какой бы здоровой я ни была, я боялась их как самого черта, ведь, чтобы заразиться французской болезнью, достаточно малейшего контакта с больным. Кроме того, я могла забеременеть, потому что смоченная в уксусе губка — средство ненадежное, а я так долго молила Деву послать мне ребенка, что она могла откликнуться на мои просьбы тогда, когда это было бы совсем некстати. Чудеса ведь по большей части случаются в самый неподходящий момент.
Этими соображениями я руководствовалась все годы своего вынужденного целомудрия, за которые сердце мое выучилось молчать, но тело никогда не переставало требовать своего.
Здесь, в Новом Свете, воздух горяч и располагает к чувственности, тут все ярче — и цвета, и запахи, и вкусы; тут даже цветы с их безумными ароматами и фрукты, теплые и нежные, побуждают к сладострастию. В Картахене, а потом в Панаме я стала сомневаться в тех принципах, которые сдерживали меня в Испании. Молодость моя проходила, жизнь утекала сквозь пальцы… Кого интересовала моя добродетель? Кто мог меня осудить? Я решила, что Господь должен быть более снисходительным здесь, на новом континенте, чем в Эстремадуре. Если Он прощал те унижения, которым во имя Его подвергались миллионы индейцев, то что Ему стоило простить слабости какой-то бедной женщины?
Я была несказанно рада, когда мы живыми и невредимыми вошли в порт Кальяо и можно было сойти с корабля, а то я уже начала сходить там с ума. Нет ничего более угнетающего, чем длительное нахождение в тесноте судна посреди бескрайних черных вод океана, бездонного и безбрежного.
В те годы слово «порт» было слишком гордым названием для Кальяо. Говорят, что теперь это самый важный порт Тихого океана, откуда в Испанию отправляются несметные богатства, но тогда это был лишь жалкий причал. Из Кальяо я вместе с монахами отправилась в Сьюдад-де-лос-Рейес, Город королей, который теперь носит куда менее остроумное название — Лима. Прежнее название мне нравится больше, поэтому я так и буду его называть. Этот город, в ту пору только основанный Франсиско Писарро в просторной долине, показался мне вечно окутанным туманом. Солнечный свет, проходя через влажный воздух, придавал городу какой-то фантастический вид, похожий на нечеткие рисунки Даниэля Бельалькасара.
Проведя необходимые изыскания, через несколько дней я нашла солдата, который был знаком с Хуаном де Малагой.
— Вы опоздали, сударыня, — сказал он мне. — Ваш муж погиб в битве при Лас-Салинасе.
— Хуан не был солдатом, — уточнила я.
— Тут нет другого ремесла: тут даже у монахов шпага в руках.
Лицо у этого человека было неприятное, неухоженная борода доходила до середины груди, одежда была грязна и в лохмотьях, рот — без зубов, а вел он себя как пьяный. Он клялся, что был дружен с моим мужем, но я ему не поверила, потому что первое, что он рассказал о нем, — что Хуан был солдатом-пехотинцем, весь в карточных долгах, ослабленный неумеренной страстью к женщинам и вину, а потом начал нести какую-то околесицу о плюмаже и парчовой шапочке. В довершение всего этот якобы приятель Хуана вконец перепугал меня тем, что попытался меня обнять, а когда я отстранила его, посулил заплатить за мою благосклонность золотыми монетами.
Проделав такой огромный путь — из Эстремадуры до бывших владений Атауальпы, — я решила сделать последнее усилие и присоединилась к каравану, который вез провиант и гнал стадо лам и альпак в Куско. Нас охраняло несколько солдат под началом некоего лейтенанта Нуньеса. Он был холостяк, красавец, бахвал и, по-видимому, привык потакать своим прихотям. В караване, помимо солдат, было два монаха, писец, судья и врач-немец. Все ехали верхом, кто на коне, кто на муле, а кого-то даже несли в паланкине индейцы. Я была единственной женщиной-испанкой в караване, но несколько индианок кечуа с детьми сопровождали бесконечную вереницу носильщиков, неся съестные припасы для своих мужей. Яркая одежда из тонкой шерсти придавала им радостный вид, хотя лица у них были угрюмые и злые, какие всегда бывают у подневольных людей. Они были невысокого роста, скуластые, с небольшими продолговатыми глазами и черными от коки зубами: они постоянно жевали листья этого растения, чтобы немного взбодриться. Их дети казались мне очаровательными, а некоторые индианки — симпатичными, хотя они никогда не улыбались.