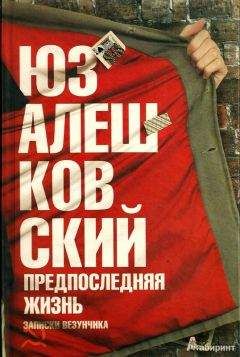Тут как раз вернулся из Пицунды загоревший мой кирюха с предками.
«Спасибо, Владимир, — сановно говорит писатель, уводя меня на кухню… — справедливо имеешь бутылку за выручку, за подлеца обжору и собачьего нашего Луку, понимаете, Мудищева, которому не мешало бы по-сталински ликвидировать яйца… он же всех сучек во дворе, что называется, террористически переебал… люди палками от него отбиваются, им не нужны щенята с длинными ушами, а моя половина возражает, что лучше бы я, понимаете, себя кастрировал, чем его… ну и за воинскую в казарме нашей чистоту — вот ваш законный гонорар, не вздумайте отказываться, в вашем возрасте без денежек можно только дрочить… если бы не вы, я ни хера бы не закончил эпопейного романища, хотя тема давнишней борьбы в Прибалтике с бандитами национализма и сепаратизма, поддержанными зарубежными спецслужбами, к сожалению, остается открытой, поскольку бандиты, сволочи антирусские и прочие антисемиты не дремлют… да, да, они реваншируют и требуют, представьте себе, сепаратизма независимости, если не наоборот… так прямо и заявлю в ЦК: какая на хер независимость, какой там, понимаете, сепаратизм, когда выжечь надо к евгени марковне все это требование исключительно однозначными огнеметами или одним ядерным ударом, он будет легче Чернобыля, точка… вы что, остолопы, проворонить желаете всю сверхдержаву или расстреливать больше некого?.. пропади все оно пропадом, вскоре срочно вылетаю в Штаты для экскурсии по залам криминального музея ФБР, в порядке планового русла гениальной нашей разрядки напряженности и вопреки проискам Уолл-стрита… по-ленински буду учиться опыту у незадачливого классового врага, потому что интерес масс к серьезной литературе гаснет к общеизвестной матери… так что пора, пока не поздно, ответственно взять на себя смешение соцреализма с детективной классикой нашей эпохи… буду создавать «Преступление и наказание» эпохи развитого социализма, а братцы Вайнеры — эти шустеры — пусть отдыхают, они всего лишь два атома еврейской национальности, а я как-никак целая русская молекула… вы нам помогли с Опсом, да и Галина Павловна, как прописали, спокойно подлечила нервишки… наш разъебай и ваш дружок, думаю, не завалит переэкзаменовку… завалит ежели — враз пойдет отдавать интернациональный долг прогрессивному человечеству и — никаких Луев, как правильно подмечал еще Робеспьер… вы хоть повлияйте на Константина в лучшую сторону… вот что, это мысль, вы его, между нами, сводите к девкам, но, как пролетарии всех стран, соединяйтесь и предохраняйтесь… да, да, сводите увальня или приведите девок к нам, я, безусловно, оплачу все ваши так называемые палки… кроме того, привезу обоим по дюжине американских гондошек «олл райт» и джинсу, а то ходите оба, честное слово, в рванине, как сантехник Вася из вражеской Эстонии и дворник Гамлет из дружественного Баку… главное, учтите, оба они жулики, их нельзя впускать в квартиру без надзора… не я же зимой спиздил сам у себя стольник из пальто, что на вешалке?.. это же нонсенс, нормально говоря, полная хуйня… итого: спасибо, заходите и в общем, и в частности».
Слава богу, что подошла к нам Галина Павловна; трепливый писатель сник, когда ее увидел, и свалил; она меня тоже поблагодарила; я смешался, что-то промычал, безумно покраснел, невольно почему-то сообщив, что часто смотрел тут телик с одной своей знакомой.
«Передайте Мэри мой привет».
«Это была другая девушка».
«Вот как… все равно передайте, будьте добры, привет именно Мэри — она прелестная особа».
Ах, Галина Павловна, — как мешком меня пыльным прибило, когда стоял я рядом с ней, ослеплявшей красотой и свежестью загорелого лица, наповал разящей женственностью фигуры, манерой речи, голосом постоянно медовым, спокойным взглядом серо-зеленых глаз… вот о ком грех было бы сказать: дама со следами былой красоты… во-первых, было ей не больше сорока трех… во-вторых, однажды я вдруг взглянул на нее глазами юнца, уже измотанного злоебитской силой слепой похоти; взглянул — и коленки у меня моментально подогнулись от ее живой, властительной, но, елки-палки, неприступной, как чертог небесный, красоты… какая уж там единственность любви? — я вновь почувствовал, что действительно не готов к вечности такого чувства и правильно делал, что никогда не клялся Марусе в любви до гроба, что не врал и не барахтался в трясинах выяснений отношений…
Договорившись с Котей встретиться, я попросил у Галины Павловны разрешение поошиваться у них на даче.
«Трудно, — говорю, — жить с предками… слишком уж тесно там для ума и души позору семьи, то есть мне, бросившему школу, но самостоятельно занимающемуся лингвистикой… у нас дома даже негде разместить десяток огромных словарей… если хотите, могу взять с собою Опса, он — единственная в моей жизни любимая собака, теперь мне будет без него тоскливо».
«Что вы, Володенька!.. Опса не отдам, я безумно по нему скучала… он больше, чем кто-либо, чует все мои душевные настроения… поезжайте, живите там сколько угодно… надеюсь, вы помните прежние мои наставления насчет света и газа?»
«Не беспокойтесь, все будет в порядке… большое спасибо, не забывайте, что всегда можете привезти Опса, когда улетаете из Москвы».
Галина Павловна вежливо со мной попрощалась — зуб на зуб у меня не попадал от прикосновения к ее теплой руке.
Потом мы с Котей отправились в пивной бар Домжура, где иногда «выбрасывали» раков; башка моя продолжала кружиться от мелькания в уме образа его прелестной и недостижимой маман.
Кстати, в тот раз я стал внимательней присматриваться к Коте, но не заметил в нем, как в одном педриле, знакомом по бане, ни многозначительных взглядов на интересных дядьков за соседними столиками, ни каких-либо иных манер и ужимок, свойственных голубым; однако чем больше я о нем думал, тем вернее казалось предположение, что Котя — малый из глубоко латентных педрил, и если это так, то жизнь кирюхи моего, настоящего поэта, должна быть невротичной и очень нелегкой, очень.
Прекрасно, я был счастлив, имелись ключи от дачи, а долгов не было ни копейки; просто десны чесались, словно у младенца, — так хотелось тишины и уединения; я на самом деле устал; чудовищно надоело зарабатывать бабки и суетиться в городском вертепе; тянуло подзабыть ежедневный крутеж-вертеж, встречи, сделки, калейдоскоп мелькающих рыл, сливавшихся в конце дня в удручающую кашу безликости.
Приобретенную тачку я, разумеется, не ставил возле дома; бабок теперь хватало на все — даже на рентуемый неподалеку уютный гаражик… он был похож на огромный сейф… главное, из бочины небольшой смотровой ямы я вынул несколько кирпичей, вырыл там заначку, притырил свое достояние — на душе стало поспокойней.
Делать бизнес, разъезжая в тачке по Москве с деловыми «туриками», было гораздо проще и безопасней, чем в сквериках и в кабаках; там можно было засветиться и попасть на мушку ментовской, а то и лубянской слежки; кроме того, из тачки было удобно выпроваживать иных шибко словоохотливых клиентов.
Я свалил из города… несколько дней в полном одиночестве ошивался на даче… много читал, болтался по окрестным лесам, никакого не чувствуя желания возвращаться… чтоб пореже уязвляли навязчивые мысли о роскошном теле Галины Павловны, старался забываться у старого телика или над книжкой… выжимал раз по пятьдесят Котину штангу.
Иногда неожиданно для себя срывался в Москву, вел Котю в кабак, болтали там; он знакомил меня с новыми стишками; от кадрежа телок Котя всегда отказывался; мы надирались, потом я под балдой линял на дачу, повторяя про себя понравившиеся строки.
зайти на телеграф очухавшись едва
и непонятный бланк подать в окошко
пусть до костей озябнут все слова
бродя по проводам продрогшим
вот вижу их в Москве остановили
вы дверь свою открыли впопыхах
они вам ничего не объяснили
а просто отогрелись на руках…
Еду на дачу и думаю: бедняга Котя, ведь это не девушке посвящено, а наверняка какому-то мужику… если не мистическому, то не мне ли?.. нет, ни тени ничего такого никогда между нами не было да и странно выглядело бы мысленное обращение ко мне на «вы»… на его месте я бы не маялся, как не маются тыщи забугровых парней и мужиков, причем столичных, не говоря уж о бисексуалах, а, как шутил один мой приятель, взял бы и заимел умного, образованного человека, знакомого с тайнами китайской кухни… так и прожили бы вместе всю остальную жизнь, поскольку прошли времена Уайльда, пианиста Игумнова, Вадима Козина, солистов балета Большого театра, даже, поговаривают, Маркса с Энгельсом и Берии с Маленковым, которых Гуталин под конец жизни обстоятельно подозревал в антипартийных замесах Глинки, бессознательно ассоциируя это дело с Чайковским, якобы пытавшимся растлить Римского одновременно с Корсаковым, — ходила такая байка в нашей школе…