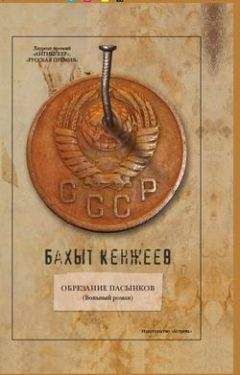"Ў...ты мне снишься... !" донесся до него загробный голос.
Вот и правильно, подумал он, вот и я переместился для нее из мира пошлой яви в другие, возвышенные области, туда же, где обретается первый муж, погибший в автомобильной катастрофе, неразделенная страсть поэта-фрондера (вот это стихотворение посвящено мне, и это, и это, а вот книга с автографом, почерк не похож от волнения), служба стюардессой на международных авиалиниях - устная библиотека убедительных выдумок, которыми сопровождалась их жизнь до женитьбы. Когда все это мало-помалу начало рассыпаться, Гость не стал уличать жену - скорее восхитился пропадающему втуне таланту, и вот теперь а теперь волей-неволей давал дал ему новую пищу. Представляю, как она сейчас носит черное платье и в слезах рассказывает любовнику о моей трагической гибели в лесах Африки, или службе разведчиком в Аркадии, как прекрасен и умен я сам в этих рассказах. Он щурился на телефон - черный на черном фоне, - а за окном никак не могла разродиться гроза, полыхая молниями настолько отдаленными, что и через двадцать сердечных биений было не слыхать грома.
Он лежал под простыней неподвижно, дрожа. Соляной столп, думал он, не повезло же несчастной женщине, жене ли Лота, бедствующей ли Маргарите, соломенной вдове и близкой родственнице врага народа.
"Я пришлю тебе денег, - кричал он в трубку, - это можно?"
"Возьми ручку и бумагу," - сонные глаза Маргариты просохли, она торопливо сыпала цифрами таможенных пошлин и лимитов. "Я хочу к тебе", крикнула она, утирая последние слезы полноватой рукой, а может быть, и носовым платком, обвязанным хлопчатобумажным кружевом. Снежно-белые мотки ниток, вязальный крючок на отреставрированном столике, блокнот в глянцевой пластиковой обложке. И еще - зимние вечера, когда он, сердился на ломающийся карандаш, вскидывал глаза на Маргариту, а та - наклоняла голову над шитьем, что-то обрывая, прокусывая, перетирая мелкими беличьими зубками, пока спал ребенок, пока телефон молчал и звезды над рекой - одна, вторая, третья, - понемногу обступали бессмысленный шар усмехающейся полной луны.
А сейчас - гроза вдалеке, и вместо долгожданного грома - три истерических звонка в дверь, и заплаканная Сюзанна бросает из брезентового вещмешка на обшарпанный пол свои нестиранные платья и нечищенные туфельки с этикетками "От Блуменфельда". Я завтра же найду квартиру, не беспокойся, и приставать к тебе не буду, друзья мы, в конце концов, или нет. Он раскрыл холодильник - маргарин, бледные помидоры, связка почерневших бананов, вареная колбаса по девяносто девять центов фунт. В столице Сюзанна тоже однажды пришла к нему с вещевым мешком, только тряпки были попроще, а в его наборе продуктов между оконными рамами вместо помидоров был репчатый лук, и вместо бананов - соленые огурцы.
"В тот раз ты принесла бутылку джина," - сказал он, не думая.
"Сегодня я ничего не принесла, и вообще могу уйти, если для тебя это важно", - огрызнулась она, а когда Гость обернулся - уже прятала лицо в ладони и бормотала сквозь слезы что-то вроде того, что десять лет, десять лет, жизнь, надежды, последняя капля... "Погоди, дорогая моя, - он присел на край кровати, - а то я тоже начну рыдать и биться. Ты забыла, как объясняла мне одну федеративную теорию - I’m OK, you’re OK? Хотя бы один из нас должен быть в порядке, а то получится, как на карикатуре из той книжки - коли у обоих собеседников не ОК, им только и остается, что стреляться из небольших пистолетов." Ее зубы стучали о край тяжелой керамической кружки, вода выплескивалась. Ах, оба они были не ОК - Сюзанна с ее вечными бедами, редактор, у которого все мышцы ныли от ящиков с капустой, мешков с картошкой, картонных коробок с салатом - эти были нетяжелы, зато многочисленны. И звонок этот, и ночь за окном - гроза ушла, обернувшись мелким холодным дождем, простудной ломотой в костях. В юности редактор злоупотреблял доверием расстроенных барышень, утешая их так жарко, что те наутро озадаченно просыпались в его постели - справедливости ради, уже не в таком отчаянии, как накануне. Необременительное было хобби - пока он не позвал к себе (на правах старого друга и почти старшего брата обидчика) женщину с короткой стрижкой, и утром (он хорошо запомнил) она гладила его по голове и смеялась, а он молчал.
В угловой бакалее он выбрал новогалльское винцо с двумя пляшущими, словно на сковородке, рыбами на этикетке. За отсутствием в доме штопора пришлось, словно на парковой скамейке в Отечестве, пропихнуть пробку внутрь случайным карандашом - тут-то Сюзанна и улыбнулась. Свет прожектора с Града Марии угадывался в высоте, обегал Город по кругу, выискивал кого-то, ободрял, утешал.
Сегодня первое апреля, сообразил он, разливая вино, помнишь?
Осточертело мне твое вечное "помнишь", вздохнула она, ты умный человек, а все, как за соломинку, цепляешься за свое прошлое. Впрочем, у тебя по крайней мере есть за что цепляться.
Не греши, Сюзанна, сказал он.
Ненавижу я свое прошлое, почти крикнула она, ненавижу, ненавижу. Куда оно меня привело? Кому я к чертовой бабушке нужна? Кто у меня остался?
Ты невежлива к собеседнику, Сюзанна, сказал он. Да и Хозяин еще к тебе прибежит. Он любит тебя, я точно знаю.
Что прибежит, не сомневаюсь, - глаза ее нехорошо блеснули, - я ему еще пригожусь. Сначала набивал себе цену в Столице, потом жил на мой счет здесь, потом прикрывал мною свои делишки. Рекомендую вам, господин вице-президент, мою любимую супругу, потратившую три года жизни на то, чтобы вызволить меня из полицейского государства и приобщить к цивилизованной жизни! Сразу отпадают неудобные вопросы насчет способа переезда в Аркадию, насчет лояльности, гражданства и всего прочего. А жена при этом остается предметом мебели и секретаршей с врожденным знанием английского. Написать контракт, сочинить рекламку, помолчать, похвалить филе-миньон, выгладить галстук. Понимаешь ли ты, как он меня ограбил? И главное, что отнял, - мою любовь к Отечеству.
Как странно и горько, подумал Гость, неужели во всем двухмиллионном Городе с толпами фланеров на улице Святого Антония, с позеленевшими шпилями церквей серого камня, с очередями у дверей приютов для избитых жен, Сюзанне больше некуда податься, кроме как к нему? О да, во времена блаженной молодости в Столице он, как было сказано, хорошо играл свою редакторскую роль - подсказывал решения, исправляя неверные ходы, иной раз прикрикивая, иной - терпеливо увещевая благодарного слушателя. Теперь ему самому пригодился бы такой домашний психиатр, а Сюзанна все повествовала ровным голосом о своих несчастьях, утомляя Гостя, тем более, что и вино кончилось, оставив боль во лбу и тяжесть в мускулах, нывших и без того. Но в первом часу ночи прорычал возле дома серый автомобиль, рассек фарами дрянную, мокрую полутьму, и без стука вошел (наружная дверь так и осталась незапертой) немногословный господин с бородкой - словно герой известного романа, в белом плаще, но не на пурпурной, а на клетчатой подкладке. Он кивнул Гостю - собрал пожитки Сюзанны обратно в мешок - взял жену за руку и сказал ей: "Хорошо, я беру свои слова обратно", и сказал Гостю: "кончай полуночничать, с утра идем устраиваться на службу", а больше не сказал ничего, и увел Сюзанну, и машина снова заревела, и блеснула алым - и остаток беспокойной ночи Гость провел хорошо: спал, и во сне гнал ногой по булыжному переулку своего детства пустую, чудно грохотавшую жестянку, а с молчаливых лип сами собой падали, шурша, желто-зеленые листья ранней отечественной осени.
Где прикажете служить интеллигентному беженцу из Отечества? С жиденьким гуманитарным образованием, лапидарным знанием английского, которое сам он, краснея, называет "рабочим", с невежественной уверенностью в своем европейском превосходстве над товарищами по несчастью из Персии или Сиама? Неужели помянутый беженец заблуждается, когда победительно скалится в самолетном кресле, покидая пределы постылого отечества? Неужто он ошибается, когда твердит встречному и поперечному, что хуже не будет?
Не то что ошибается, но - негде служить такому в Аркадии.
И многие, многие начинают с таскания плоского и перекатывания круглого, и перед беспокойным сном на раскладном диване из Армии спасения мельтешат у них в глазах ящики, бочки, кровавое пятно разбитого арбуза на мостовой у овощной лавки, а в ушах стоит густая иноязычная брань случайных коллег, визг тормозов, да истошный вой мегатонных грузовиков с богатой североамериканской снедью.
Хуже не будет, лукаво повторяли, рассчитывая, разумеется, на материнские объятия обетованной Аркадии. И, едва выгрузив содержимое фибровых чемоданчиков на дощатый пол первого жилья за океаном, набирали номер старого приятеля - будь то беженец со стажем, или могущественный, пахнущий парижским одеколоном абориген, который в свое время, проездом в Столице, учился пить неразбавленную водку за кухонным столом, употреблял втуне имена Чехова и Достоевского, и сокрушенно кивал во время саги о многих трудностях отъезда. Знаю достовернейшие случаи, когда приятель, радостно ахнув, сразу переходил на деловой тон, сообщая о ждущей нового изгнанника должности доцента по преподаванию пороков тоталитарных режимов. Увы, увы, куда чаще всесильный абориген избегает разговоров о службе, завершая свои восторги приглашением не на ставку борца за демократию, а на самый прозаический ужин.