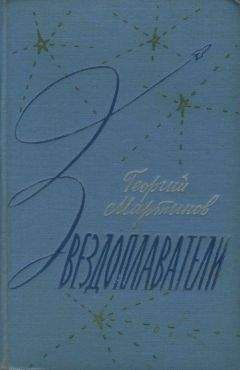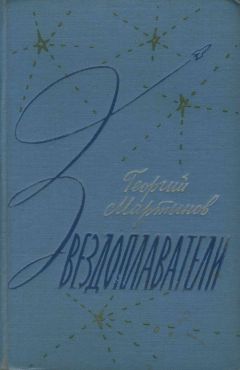Объясняется такое явление, я думаю, тем, что умятые мною деньги там встопорщились, можно сказать, разбухли, став как бы пробкой, которая заклинила всякое движение. Конечно, ящик нетрудно выломать ломом, но жалко стола, он у меня от прапрапрапрадеда, не знаю, нужное ли количество “пра” у меня произнеслось, я не считал. Ему, этому прапра, стол делал выдающийся крепостной умелец – по французским чертежам из африканского дерева… Есть предание, будто мой предок за ним что-то вроде стихов писал, может, даже статьи в газету, ломать такой стол жалко…”
“И что ж будешь делать дальше? – спросили мы его.- Так всю жизнь на шее Дельвига и просидишь?”
“Зачем всю? – возразил Кукольник.- Я в Комитет госбезопасности обратился, у них там есть отдел по открыванию всего на свете, они мне за большие деньги классного выделили специалиста, он стол осмотрел, сказал, что завтра откроет, не повредив”.
“Как же он сможет его не повредить?” – поинтересовались мы, нам было интересно. “Поскольку стол старинный, он щелястый,- сказал
Кукольник.- Специалист нашел такое решение: через всякие щелки и трещинки он насыплет в ящик сверху железных опилок, а потом под столом включит мощный электромагнит. Опилки к магниту притянутся и встопорщившиеся купюры собой прижмут. И ящик легко откроется”.
“Башковитый, подлец! – восхитились мы специалистом.- Недаром свой хлеб в кагэбэ ест”.
Так разрешилось это недоразумение с Кукольником, которого чуть было не приняли за бедняка, потому что он у Дельвига занимал на троллейбус. И мы перешли, точнее вернулись, к главному вопросу: хорошо ли, что сырье закончилось и работа остановилась, или плохо? Если плохо, то что предпринять, чтоб работу возобновить, если же хорошо, то давайте поаплодируем друг другу, троекратно расцелуемся и разойдемся на отдых, мы его заслужили.
Из всех собраний, какие у нас были, это получилось самым бестолковым. Потому что мнения разделились не так, что одни имели одно, другие – другое, а так, что у всех было и то, и другое, но каждое лишь отчасти. То есть не мы разделились на два лагеря, а каждый из нас разделился внутри себя. Кто был рад, тот в то же время был и не рад. К консенсусу при таком раскладе прийти фактически невозможно.
Да, говорили мы, с одной стороны, это огромное облегчение, что не надо больше вкалывать днем и ночью, спя урывками на ветоши, а по тебе ползают черепахи. Мы же света белого не видели, от хронического недосыпа у всех набрякли под глазами мешки. Наши женщины, беспрерывно готовя и разнося черепаховый суп, то и дело падали от переутомления в обмороки. Конечно, огромное счастье с такой жизнью покончить, уехать куда-нибудь на Фолклендские острова, где утречком можно лениво выйти в шелковом халате к подножию океана и, сбросив с себя шелка, отдаться ласковым волнам в чем мать родила… И стыдиться наготы не перед кем: пляж пуст, он же личный, вот что главное, индивидуальный, купленный за свои кровные, никого на нем нет – скачи голышом, как конь на лугу…
Но с другой стороны – это ж абсолютная потеря смысла жизни: ликвидация коллективности существования! С кем поделиться радостью, когда не с кем? Да и откуда радость возьмется, если вокруг никого?..
Разрываемые противоположными чувствами: вернуться на поприще производства дуршлагов или предаться неге на Фолклендских островах, мы затянули собрание до утра. Не осталось ни одного члена коллектива, который выступил бы менее двух раз. И если в первом выступлении он говорил: давайте предадимся неге, то во втором: вернемся к счастью коллективного труда. Настолько раздираем противоречиями был каждый.
Вряд ли мы б сумели прийти к согласию, если б не взял слово умница Вяземский. Он рассудил на удивление просто и понятно. “Мы должны избрать негу,- сказал он.- Не потому, что она доставляет больше блаженства, чем коллективный каторжный труд,- нет, она его больше не доставляет. А потому, что такая разновидность блаженства – изнеженно извиваться голым телом в солнечный день на собственном пляже – нами еще не испытана. Не зная же, как сравнивать и выбирать? Давайте сначала испытаем негу – год, полтора, а для верности лучше так вообще целую пятилетку, и уже после этого каждый примет решение. Одни останутся изнывать, лежа рядом с океаном, другие предпочтут счастье каторжного труда.
Выбор будет сделан со знанием и того, и другого. А сейчас – негу мы видели только в кино, да и то давным-давно, в последнее время про негу фильмов что-то нет, все про один труд…”
Все с этим согласились. Крепко обнялись, расцеловались и разошлись, договорившись: не вынесшие негу вернутся в цех ровно через пять лет и сразу станут делать дуршлаги. А кому нега придется по душе, тот пришлет вернувшимся открытку – с видом своего пляжа и приветствием любителям труда…
Женщины не поехали – ни одна. Наташку Пушкин с собой звал, она отказалась. Мы спрашивали: неужели родина тебе дороже Пушкина?
Она ответила: “Заткнитесь насчет родины. Просто Пушкин меня там бросит. Что, я не видела в кино ихних телок? Они меня за пояс заткнут в первую же неделю”.
Анька не поехала тоже не из-за родины. У нее уже третий год как роман с одним военным летчиком. Они виделись только однажды, у обоих – любовь с первого взгляда, он ей пишет из своей части:
“Как выйду на пенсию, так приеду и поженимся”. Он летает на таких самолетах, с каких на пенсию отправляют во цвете лет.
Летчик еще не успеет разлетаться, а его уже списывают, хотя ему не хочется. Но если он говорит: “С какой стати? Я хочу летать еще!” – ему отвечают: “Ишь какой летун выискался! Ты на свои руки глянь, они же трясутся”. Он смотрит: действительно, трясутся. А если не трясутся и он им с возмущением возражает: мол, не трясутся, они спрашивают: “А ноги?” Он смотрит: трясутся ноги. Такие это самолеты. Суперсверхскоростные.
Но в остальном эти списанные летчики еще молодцы и мечтают о семье. Анькин жених только и пишет ей: “Скоро поженимся! Мне всего год остался. С радостью замечаю, что левая нога уже иногда подтрясывается. Конечно, жалко будет расставаться с любимой профессией, но горечь предстоящей разлуки с небом скрашивает радость предстоящей жизни с тобой на Земле. Когда я смотрю на нее с высоты своего суперсверхптичьего полета, то люди для меня что микроорганизмы – и те, и другие невидимы невооруженным глазом, необходима специальная оптика. Но я не проникаюсь к людям презрением из-за их малости, а, наоборот, думаю: среди этих микроорганизмов живет мой любимый микроорганизм, это ты.
Такое сравнение с микроорганизмом тебе не обидно?”
Анька ему на это пишет: “Как я могу обижаться, если сама называю тебя вирусом, потому что с Земли не только тебя не видно, но и даже твой большой самолет, а специальной оптики у нас в цехе нет…”
А бабка Арина не поехала потому, что сдуру купила себе в деревне избу и теперь погрязла в грядках на приусадебном участке. Когда мы ее спросили, не хочет ли она покинуть родину, она ответила, что с удовольствием бы, но некогда: то вскапывать надо, то окучивать, то солить и квасить. Большую часть заработанных денег она отдала племяннику, он на них купил завод по производству орбитальных бензоколонок и теперь процветает. Довольно часто его можно видеть по телевизору. Стоит он, как правило, где-нибудь в сторонке, к объективу не льнет, но когда мимо проходят президент или премьер-министр, то всегда замедляют шаг, чтобы пожать ему на ходу руку…
И я остался. Как раз из-за родины. Но не потому, что она мне мать или жена, как многие о ней неправильно говорят: ведь от матерей, когда вырастают, всегда уходят, а от жен – вообще бегут… Просто я к ней привык.
Взять, например, мою квартиру. Сейчас такие времена, что вечером то и дело гаснет свет, иногда надолго. Так вот мне это, как говорится, без разницы – что он есть, что нет. Я уже сто лет живу в этих комнатах и так хорошо чувствую все их изгибы, что в абсолютной темноте иду на кухню, безошибочно беру сковородку, беру из ящика вилку и безошибочно уплетаю то, что на сковородке, не хуже, чем при свете. А то еще иду с этой сковородкой в гостиную и плюхаюсь в кресло. Ни вилки мимо рта не пронесу, ни мимо кресла задницу. Знакомые мне говорят: ты ж разбогател, купи шикарную квартиру! Я отвечаю: у меня нет в запасе лишних ста лет. Они не понимают, о чем это я, я же и не разъясняю, что в новой квартире мне понадобится целый век, чтоб приспособиться так вольно ходить по ней без света. Какой бы распрекрасной она ни была, если при выключенном свете в ней набиваешь синяки, увольте, я обойдусь…
С родиной то же самое. Я знаю все ее изгибы и закоулки, мне озираться нужды нет, все, что вокруг, я нутром чую. Мне на родине, таким образом, и темнота не страшна, а у нас ведь темно почти всегда, вспышки света редки и краткосрочны: пока щуришься, жмуришься, кривишься от рези в глазах, словом, пока к свету привыкаешь, он гаснет,- порой даже хочется сказать: слава Богу…